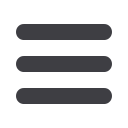

116
стол, они садятся вокруг меня и смотрят, что я делаю. Они глубоко убеждены, что у меня
не может быть от них ничего тайного, что я не имею права заняться чем-нибудь таким, что к ним
не имело бы отношения
1
. Кроме того, они меня «страшно любят», особенно в последнее время, в
последнее время они серьезно вообразили, что я герой, сражающийся с каким-то змием, а они
поэтому имеют право смотреть мне в рот и сожалеть о моих страданиях.
Но когда я ухожу в свою комнату, где стоит машинка, они стесняются следовать за мной,
потому что предполагают, что мне нужно привести себя в порядок и вообще заняться туалетом.
Это единственная причина, которая в их глазах оправдывает мое удаление с их горизонтов. Я их
вот обманываю, сижу и болтаю с моим солнышком. Я знаю, что у самых дверей моей квартиры
вертится дежурный по коммуне и очередной сигналист. Им неловко давать сигнал на рапорты,
потому что им неизвестно, привел ли в порядок я свой туалет. Ничего, пусть немножко опоздает
сигнал на рапорты. Правда, Солнышко?
Кроме того, в машинке есть еще одно преимущество, на ней гораздо скорей пишется и,
кроме того, оригинальней как-то мыслится: больше наклонности к болтовне.
А мне давно вот так просто хочется болтать с Вами, и я теперь очень часто, когда думаю о
нашей встрече в Алупке, представляю себе, что мы с Вами болтаем, и болтаем, и болтаем без
всяких претензий и без всякой критики. Так могут болтать только настоящие друзья, которые
настолько верят друг другу, что не боятся быть неинтересными.
Впрочем, мне сейчас болтать, пожалуй, и довольно: трубят-таки на рапорты.
Коммуна Дзержинского
24 мая 28
11 часов вечера
Хочу ответить на Ваши последние письма, там много таких мест, на которых я поставил
нотабене.
Ваше письме от 20 мая такое значительное, что до сих пор в беготне, заботе и в толпе я
считал просто неприличным Вам отвечать на него. Оно на меня производит впечатление какого-
то классического произведения — это прогулка, Солнышко, по глубинам человеческой жизни.
Отвечать на него — это значит пройтись по всей философии человечества, я, конечно, это
не сделаю никогда, не потому, что не умею, а потому, что боюсь Солнышка: а вдруг ему фило-
софы не нравятся. Все же я должен сказать, что не имею никакого понятия об обидах, какие я
мог нанести Солнышку настолько основательно, что оно и до сих пор о них забыть не может.
Вы пишете, что скажете мне о них только тогда, когда окончательно мне поверите. Но,
родное, не нужно никогда окончательно верить человеку. Это, может быть, и не опасно, но это
скучно и тоскливо. Я вот сейчас страшно люблю Вас, страшно ценю Вас, страшно благодарен за
Вашу изумительную ласку, готов целовать чистоту Вашу, в чем бы она не выражалась, даже в
кончике Вашего ботинка, в Вашем гребешке, подвязке, каком-нибудь бантике, карандашике, но я
каждую минуту ревную Вас, страшно ревную, и в какой-то страшной глубине своего духа я по-
местил гаденького желтенького чертика, и он в какую-то чудесную непонятную щелочку под-
глядывает за Вами и доносит мне о всяком подозрительном пустячке. Этот чертик мне и самому
гадок, но поневоле приходится его держать, как во всяком благоустроенном государстве.
Поэтому, Солнышко, не нужно откладывать обид до того времени, когда Вы мне оконча-
тельно поверите — все равно этого никогда, конечно, не будет. А ты, Солнышко, в таких страш-
ных выражениях говоришь сейчас об обидах, что я, честное слово, терпеть больше не могу.

















