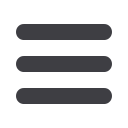

201
- Постойте, - удивленно произнесла Рязанова. - Если уж так... живые глаза, говорите... хо-
рошо. Почему вдруг вас этот вопрос так взволновал?
Доктор поднял голову разочарованно, скучая, глянул на небо, вздрогнул.
- Эх! Ну что говорить! Как это так... взволновал! А почему нельзя волноваться. Вы уже
сейчас с вопросом: почему взволнован? Ну вот... потому: солнце взошло, берега зеленые, девочка
хорошая плавает, вот и захотелось... по-настоящему. А вы тоже.
- Бюрократ!
Доктор засмеялся добродушно, как смеются люди, которым, собственно говоря, весело, но
которые почему-то долго сдерживали свое веселье!
- Да, Елена Павловна. Все мы бюрократы! И вы тоже. И Дуся Круг. Ей 23 года, а она уже.
- Все-таки, доктор, объясните.
- А вы скажите не так! Не доктор, а, к примеру, Михаил Григорьевич! Не знаете моего
имени, отчества? Не знаете? А фамилию мою знаете? Вот видите, покраснели! Не знаете фами-
лии. А я при вас уже два месяца работаю. Я знаю, что вы Елена Павловна Рязанова, и еще про вас
кое-что знаю. А почему? Потому что у вас кабинет, бумажки, планы. В этих планах всякие во-
просы, ответы, инструкции, где же вам знать, как зовут доктора и что ему нужно, может, в жиз-
ни?
Рязанова слушала, опустив глаза, трудно было судить, какое впечатление произвели на
нее слова доктора Коропа. Ходиков слушал доктора, и его глаза, очки, губы улыбались одобри-
тельно. Из-за спинки дивана над плечами Ходикова уже склонилось обветренное лицо Морочно-
го, и сверкала перламутровая его улыбка. Ходиков задорно воспрянул облезлой большой голо-
вой.
- Правильно, доктор, говоришь, ей-богу, правильно. Я это давно замечаю, голубчики. Все
хорошо, я люблю нашу жизнь, очень люблю. И так приятно: все люди как будто на солнышко
вылезли. То, понимаете, сидели где-то в погребе, сыро, пустота, грязно, скучно, а теперь вылез-
ли, и оказывается, всем солнышка хватит, и никто не кричит: я имею право на солнышко, и никто
дворцов не строит, никто не важничает. На этом, доктор, поставим нота бена, поставим.
- Поставим, - ответил доктор с воодушевлением и кивнул головой.
- Поставим, так что вы, мать-секретарша, родненькая, не обижаетесь? А души все-таки
мало. Не только мало, а и совсем нет. И не то, что люди стали плохие? Боже сохрани, люди заме-
чательные. И даже... даже Орхидея - хороший человек, честное олово, хороший, жалко вот, что
он сегодня не поехал с нами. А... черт его знает, отчего это, скажите. Каждый, аж слеза его про-
шибает, все беспокоится, все хлопочет об общем благе, бегает целый день, не спит, не ест, забо-
тится, чтобы как лучше, а души у него к другому человеку все-таки нету. Я уже думал, думал,
отчего это? А вы знаете отчего? Оттого, что все записано, на бумажке записано.
Рязанова вскинула на Ходикова огромные серьезные глаза.
- Интересно. Бумажка виновата.
- Бумажка! Вот смотрите. Один начальник написал, другой начальник написал, третий,
четвертый целый циркуляр сочинил, а пятый даже книжечку такую, брошюру, все побеспокои-
лись. А Орхидея, или, допустим, вы получили, ах, ты господи, боже мой! Директива! Ах ты, ца-
рица небесная, как же ее лучше выполнить! Надо же проработать, план составить, надо же что-то
не забыть, важное ведь дело, - сколько людей от этого зависит. И это нужно не забыть, и это сде-
лать, и это записать, и туда написать. Ох, не управлюсь один, дайте делопроизводителя. А тут же
и массы нужно в известность поставить, как же можно, а вдруг спросят: поставили массы в из-
вестность или не поставили? И сколько раз поставили. Давай общее собрание, давай плакат! А
начальник, он тоже ревности имеет к человеку, он тоже беспокоится. Он вторую бумажку пишет,
что сделано, какие меры приняты? Какие разъяснения? Немедленно ответить с получением сего.
Ай, ай, ай, а у нас ответ не готов, давай

















