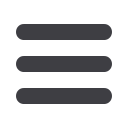

97
видим, для Бальмонта было очевидно место Шмелева в русской и мировой
литературе – среди самых известных классиков.
Что касается собственно литературно-критической манеры
Бальмонта, то заметно, что и в критике Бальмонт импрессионистичен, как
в своей поэзии. От одной точки-импульса-впечатления исходят у него
мысли-импрессии субъективированного свойства, но удивительно точно,
проникновенно раскрывающие своеобразие художественного мира
анализируемого писателя. Так и со Шмелевым. Бальмонт признается,
говоря о чтении «Росстаней»: «<…> опять услаждаясь отменно русским и
завлекательно звучащим языком Шмелева, в закатном свете того далекого
вечера я вдруг остановился, как останавливаются на опушке леса,
увидевши душистую любку, свечеобразную ночную фиалку, любимую с
детских лет теми, кто понимает что-нибудь в русской природе. Мой глаз
задержался на словах повести: «<…> ”Тих и тепел был май…”. Пять
простых слов. Но в них среди прозы неосознанный прозаиком
стих» [1, c.359].
И еще: нельзя не заметить в восприятии Бальмонтом творчества
Шмелева постоянную проекцию на себя, свое восприятие России, –
которое, как можно было убедиться выше, родственно соотносимо со
шмелевским. О такой, как у Шмелева, поэзии прозы Бальмонт пишет: «Но
вот – иногда – случайно – неожиданно для себя – такой стих увидишь, и он
коснется тебя и полетит, и зазвенит, и поманит, и уведет. Меня Шмелев
тогда немедля увел в Россию, и мгновенно душою запев, я написал:
“Пролетьем в лето”» [1, c.359]. Так назвал свое стихотворение, навеянное
строками из повести «Росстани», Бальмонт.
И, наконец, самое главное, что было понято Бальмонтом о сути
таланта Шмелева, полагаем, заключено в следующих поэтических строках
из этого стихотворения: «Переплеснут предел, / Сердце хочет любить –
хоть страданье» [1, c.360]. Сам поэт это подтверждает и в рассужденьях:
«Я понял в тот солнечный вечер, что сердце Шмелева пронзено
безвозвратно, и единственно это пронзение. Я понял, что весь он – любовь
и должен любить хоть страданье» [1, c.360]. По сути, Бальмонт говорит
здесь о высоком христианском стоицизме, присущем Шмелеву,
восхищавшем его в нем, заставлявшем стремиться к подобной духовной
высоте.
Полагаем, затронутая нами тема заслуживает более детального
рассмотрения, ибо перед нами редкий пример сильного духовного

















