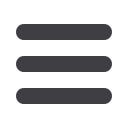

198
Очевидно, небольшая часть заключалась в том, чтобы раз в 3 года положить белый или
черный шар направо или налево. Направо мог стоять Изюмов, налево – какой–нибудь другой
купец, похожий на Изюмова, а может быть, и никто не стоял, ибо, зачем стоять, если есть Изюмов,
который «мирно» сидит себе на месте городской головы вот уже столько лет, никто не трогает,
чинит мостовые, собирает налоги, назначает учителей в полдюжины начальных школ, а вообще
«человек честный и приличный».
Такая штука называлась городским самоуправлением или земским самоуправлением –
штука, собственно говоря, бедная, настолько бедная, что, пожалуй, не стоило бы лишать нас права
голосовать за Изюмова, а с другой стороны, и для нас не было смысла добиваться подобного
«избирательного права».
Однако, как это ни странно, это самоуправление вызывало заметное умиление у многих
интеллигентных душ, и даже само слово «земство» некоторые произносили с дрожанием голоса.
Тогда не переставали перечислять и описывать в книгах разные земские подвиги, между которыми
называлась даже постройка дорог, хотя все хорошо знали, что как раз дороги в нашей стране
блистательно отсутствуют и дорогой называлась такая часть земной поверхности, которая
наименее приспособлена для езды. С таким же умилением говорили и о городском
самоуправлении, несмотря на то, что все наши города, за исключением, может быть, одного
Петербург, жили бедно, грязно, переполнены были клопами и собаками и только в очень
незначительной степени напоминали европейские города.
Городское и земское самоуправление, сопровождающие их выборы и карьеры отдельных
лиц, реализуемые в отдельных выборах, были той жалкой «демократической» подкладкой
самодержавия, которую мы – пролетариат – даже не ощущали. Наша жизнь помещалась за
границами даже такой общественности, а ведь наша жизнь – это была жизнь всего русского
народа. К нам эта общественность изредка прикасалась самым «теплым» своим боком, боком
благотворительности. У столпов общественности, у этих самых городских голов и членов, у их
жен и дочерей иногда начинало зудеть под какой–нибудь идеалистической ложечкой; тогда,
смотришь, на одной из второстепенных улиц воздвигается народный дом – один на губернию,
который только потому назывался народным, что не совсем удобно было называть его
«простонародным». В другой paз, в таком же порядке, рука «дающая и неоскудевающая» начинает
строить приют для сирот, – очевидно, для сирот наших, пролетарских, но на открытии приюта
пьют, и закусывают, и ухаживают за дамами, и вообще кокетничают и добрыми сердцами и
неоскудевающими руками отнюдь не пролетарии, а все та же «общественность». В третьем месте
строится дешевая столовая, в четвертом – вечер для бедных студентов гремит музыкой и щеголяет
прогрессивным духом.
Только теперь, с высот социалистического общества, видно, сколько и во всей этой
общественности, и в ее благотворительности было настоящего похабного цинизма, настоящей
духовной человеческой нищеты, сколько оскорбления для действительного создателя жизни и
культуры – для трудящегося человека.
Но и тогда трудно было кого–нибудь обмануть из «простого» народа: народ прекрасно
понимал, что ему положено судьбою работать по 10 –12 ч. в сутки, жить в лачугах, в темном не-
вежестве, продавать труд своих детей, периодически переживать голод и всегда дрожать перед
призраком безработицы. Это была определенная, освященная богом, веками и батюшками доля; то
обстоятельство, что где –то кого –то выбирают господа, в сущности, мало кого занимало.
2
После 1905 года, наполненного нашей борьбой и нашим гневом, на сцене «об-
щественности» были поставлены новые декорации. В них уже просвечивали европейские краски.
Правда, самое слово «конституция» считалось крамольным словом, но все было сделано почти как
в Европе: происходили выборы, боролись партии, произносились речи, принимались запросы, об-
суждались законы, разгорались страсти и аппетиты. Российская история вступила в новую эпоху.
















