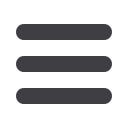

199
Прежде было в моде щеголять открытым цинизмом самодержавия, азиатской откровенностью
насилия. Теперь должны были войти в обиход утонченные европейские формы.
Законными и будничными сделались слова «прогрессивный», «демократический»,
«свобода», даже слово «народ» начало выговариваться без прежнего неизменного обертона
«простонародный». Высшая политическая техника позволила даже кадетам произносить такие
речи, что у полицейских дух захватывало. Государственная дума казалась приличным
учреждением, но восторгались этим обстоятельством очень немногие, восторгались те, которые
обладали «европейским» вкусом, воспитанные на английских и французских образцах.
Настоящим хозяевам жизни этот стиль не очень нравился. Романовская фамилия,
романовский двор, аристократия, дворянство не могли так скоро отвыкнуть от привычной
простоты отношений, от непосредственности и искренности кнута, от неприкрытого,
откровенного грабительства.
Эпоха Государственной думы не выработала ни щепетильной элегантности лорда, ни
утонченного остроумия либерала, ни важности барона, ни мудрой добродетельности фермера.
Европейские запахи парламентаризма казались запахами неприятными. Николай II даже в 1913 г.
писал министру внутренних дел Маклакову о своем желании распустить Государственную думу,
чтобы вернуться к «прежнему, спокойному течению законодательной деятельности, и притом в
русском духе».
Этот самый «русский дух», не дававший покоя Николаю II, в сущности, был настоящим
средневековым азиатским духом, духом шахов и падишахов, беев, пашей и беков. И он так сильно,
этот дух, заполнял политическую атмосферу, что европейские конституционные мечты остались
гласом вопиющего с трибуны. Идущное и пахнущее духами буржуазное избирательное право,
фасонно украшенное формулой о всеобщих равных и тайных выборах, самый тонкий,
лакированный и полированный инструмент классовой власти буржуазии, Николаю II и его
башибузукам казалось чересчур нежным и непривычно хрупким инструментом сравнительно с
испытанными истинно-русскими средствами: нагайкой и виселицей.
Но «прежнее, спокойное течение законодательной деятельности» не так легко было
восстановить, ибо хорошо помнился 1905 год, помнилось гневное выступление пролетариата и
крестьянства, вспоминался малодушный манифест 17 октября, вспоминались и московское
восстание, и великая забастовка, и пожары помещичьих усадеб.
Рабочий класс и стоящая во главе его партия большевиков знали, что и от самого
наиевропейского избирательного закона нельзя ожидать коренного улучшения жизни трудящихся,
но нужно ожидать улучшения условий борьбы. Поэтому возвращение к «деятельности русского
духа», т.е. возвращение к откровенному разгулу азиатского самодержавия не могло удаться
вполне, но удалось частично.
Если на выборах в первую и во вторую Государственную думу еще можно было слышать
кое–какие европейские запахи, то уже к 1907 г. они были основательно испорчены привычными
актами «деятельности в русском духе»: виселицы Столыпина
3
, погромы, резиновые палки в руках
членов «Союза русского народа», отправка на каторгу всех социал–демократов второй
Государственной думы – вот те самобытные спокойные орнаменты, которые с воодушевлением
прибавил Николай II к формуле четыреххвостки. А закон 3 июня 1907 г. и самому избирательному
закону придал характер прямодушно азиатской бесцеремонной откровенности.
По этому закону только крупные землевладельцы получили право непосредственно
посылать в губернское избирательное собрание своих выборщиков, да первая (богатая) курия в
городах получила приличное представительство. Все остальные граждане должны были пройти
через несколько сит разных собраний, уездных и губернских, чтобы добиться одного–двух мест в
губернском избирательном собрании. Закон был сделан цинично–грубо, даже без заботы о
















