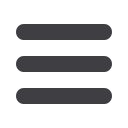
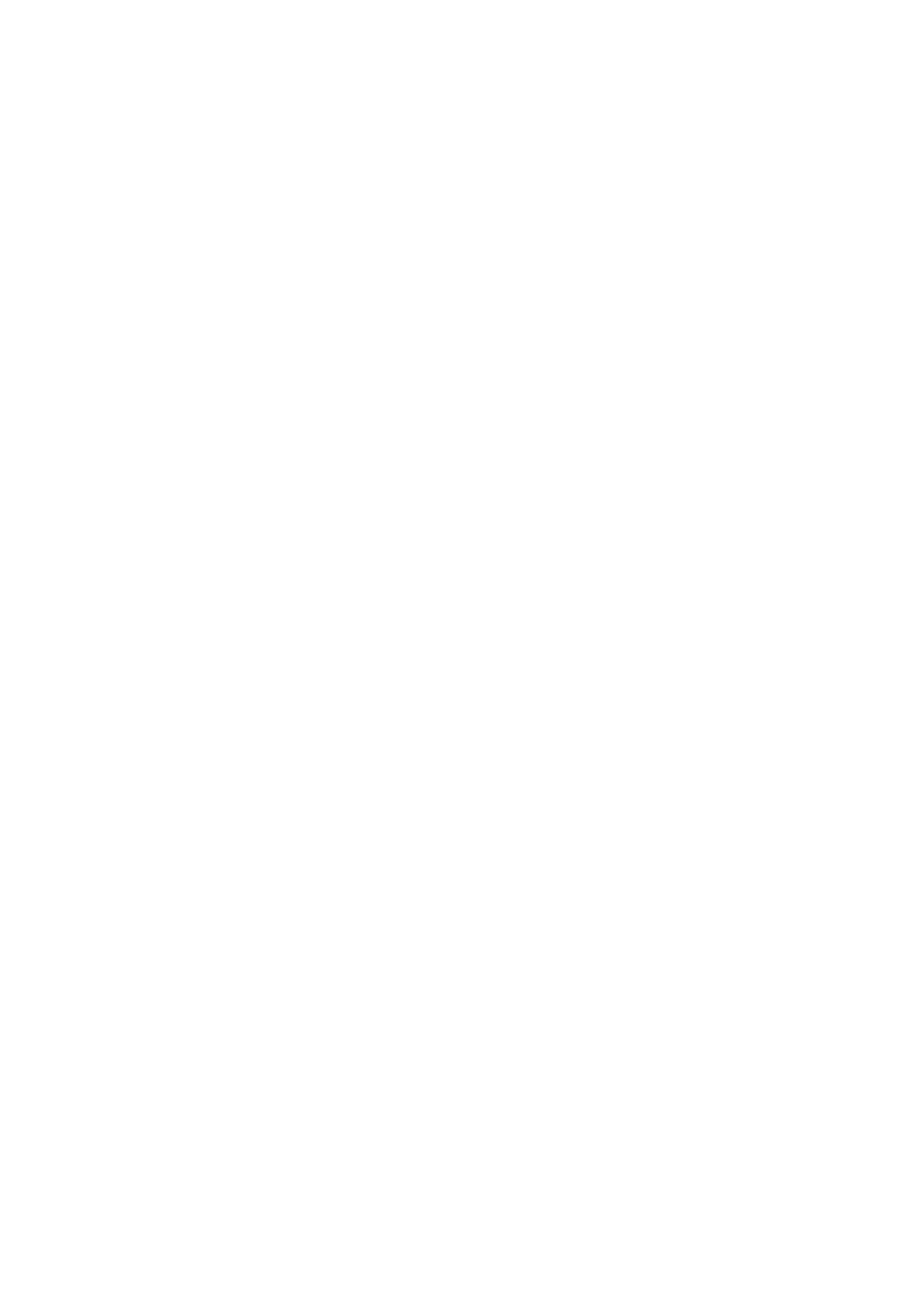
272
«Это напрасно! Знали бы Вы, как мало считаются с этим многие мои корреспонденты и с
какими просьбами обращаются ко мне! Один просил выслать ему в Харбин – в Маньчжурию
– пианино, другой спрашивает, какая фабрика в Италии вырабатывает лучшие краски, спра-
шивают, водится ли в Тирренском море белуга, в какой срок вызревают апельсины и т.д. и
т.д.».
И в письме от 9 мая 1928 г.:
«Позвольте дружески упрекнуть Вас: напрасно Вы не хотите научить меня, как и чем мог бы
я Вам и колонии помочь. Вашу гордость борца за свое дело я также понимаю, очень понимаю!
Но ведь дело это как-то связано со мною, и стыдно, неловко мне оставаться пассивным в те дни,
когда оно требует помощи»...
Когда Алексей Максимович приехал в июле 1928 г. в колонию и прожил в ней три дня,
когда уже был решен вопрос о моем уходе и, следовательно, и вопрос о «педологических»
реформах в колонии, я не сказал об этом моему гостю. При нем приехал в колонию один из
видных деятелей Наркомпроса
11
и предложил мне сделать «минимальные» уступки в моей
системе. Я познакомил его с Алексеем Максимовичем. Они мирно поговорили о ребятах, по-
сидели за стаканом чаю, и посетитель уехал. Провожая его, я просил принять уверения, что
никаких, даже минимальных, уступок быть не может.
Эти дни были самыми счастливыми днями и в моей жизни, и в жизни ребят... Я, между
прочим, считал, что Алексей Максимович – гость колонистов, а не мой, поэтому постарался,
чтобы его общение с колонистами было наиболее тесным и радужным. Но по вечерам, когда
ребята отправлялись на покой, мне удавалось побывать с Алексеем Максимовичем в близкой
беседе. Беседа касалась, разумеется, тем педагогических. Я был страшно рад, что все коллек-
тивные наши находки встретили полное одобрение Алексея Максимовича, в том числе и
пресловутая «военизация», за которую еще и сейчас покусывают меня некоторые критики, и
в которой Алексей Максимович в два дня сумел разглядеть то, что в ней было: небольшую
игру, эстетическое прибавление к трудовой жизни, жизни все-таки трудной и довольно бед-
ной. Он понял, что это прибавление украшает жизнь колонистов, и не пожалел об этом.
Горький уехал, а на другой день я оставил колонию. Эта катастрофа для меня не была аб-
солютной. Я ушел, ощущая в своей душе теплоту моральной поддержки Алексея Максимо-
вича, проверив до конца все свои установки, получив во всем его полное одобрение. Это
одобрение было выражено не только в словах, но и в том душевном волнении, с которым
Алексей Максимович наблюдал живую жизнь колонии, в том человеческом празднике, кото-
рый я не мог ощущать иначе, как праздник нового, социалистического общества. И ведь
Горький был не один. Мою беспризорную педагогику немедленно «подобрали» смелые и пе-
дологически неуязвимые чекисты и не только не дали ей погибнуть, но дали высказаться до
конца, предоставив ей участие в блестящей организации коммуны им. Дзержинского.
В эти дни я начал свою «Педагогическую поэму»
12
. Я несмело сказал о своей литератур-
ной затее Алексею Максимовичу. Он деликатно одобрил мое начинание... Поэма была напи-
сана в 1928 г. и... пять лет пролежала в ящике стола, так я боялся представить ее на суд Мак-
сима Горького. Во-первых, я помнил свой «Глупый день» и «не написан фон», во-вторых, я
не хотел превращаться в глазах Алексея Максимовича из порядочного педагога в неудачного
писателя. За эти пять лет я написал небольшую книжонку о коммуне Дзержинского и... тоже
побоялся послать ее своему великому другу, а послал в ГИХЛ. Она два с лишним года про-
лежала в редакции, и вдруг, даже неожиданно для меня, ее напечатали. Я не встретил ее ни в
одном магазине, я не прочитал о ней ни одной строчки в журналах или газетах, я не видел ее
в руках читателя, вообще эта книжонка как-то незаметно провалилась в небытие
13
. Поэтому я
был несколько удивлен и обрадован, когда в декабре 1932 г. получил из Сорренто письмо,
начинающееся так:
«Вчера прочитал Вашу книжку «Марш тридцатого года». Читал с волнением и радо-
стью...»
















