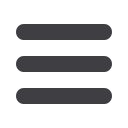

267
– Буря. Скоро грянет буря.
И буря действительно грянула. Российская история вдруг пошла вихрем, по-новому за-
копошились Гаврилы, и уже трудно стало различать, где дорога, а где обочина. Господские
экипажи заспешили в разные стороны, заметались за ними волны пыли, а скоро к ним приба-
вились и дымные волны пожарищ. Тысячами встали новые люди, так мало похожие на Гав-
рил, и впереди них были великаны, каких еще не знала наша история.
Ударил вдруг по нашей земле целым скопом раздирающих молний 1905 год. Очень мно-
го интересных вещей полетело вдруг к черту в этой грозе; полетели «обожаемые государи» и
«верные наши подданные», могильный покой, и затхлость многих медвежьих углов, графы
Салиасы и князья Волконские. Как туман, начало расползаться и исчезать квалифицирован-
ное невежество Гаврил. Пыльный занавес дворянского великолепия тоже заходил под вет-
ром, и мы увидели, что есть большая человеческая культура и большая история. Мы уже не
рылись в библиотечном шкафу, теперь новые книги каким-то чудом научились находить нас,
настоящие новые книги, которые звали к борьбе и не боялись бури. И теперь уже близким и
родным сделалось для нас по-прежнему задорное, но теперь еще и мудрое имя: Максим
Горький.
Все это прошло в дни моей юности. Батько мой был человеком старого стиля, он учил
меня на медные деньги, впрочем, других у него и не было. Учили меня книги, в этом деле
таким надежным для многих людей сделался пример Максима Горького: в моем культурном
и нравственном росте он определил все.
Горький вплотную подошел к нашему человеческому и гражданскому бытию. Особенно
после 1905 г. его деятельность, его книги и его удивительная жизнь сделались источником
наших размышлений и работы над собой.
Ни с чем не сравнимым по своему значению стало «На дне». Я и теперь считаю это про-
изведение величайшим из всего творческого богатства Горького, и меня не поколебали в
этом убеждении известные недавние высказывания Алексея Максимовича о своей пьесе. То,
что Лука врет и утешает, разумеется, не может служить образцом поведения для нашего
времени, но ведь никто никогда Луку и не принимал как пример; сила этого образа вовсе не в
нравственной его величине. Едва ли было бы убедительнее, если бы Лука излагал программу
социал-демократов большевиков и призывал обитателей ночлежки... к чему, собственно го-
воря, можно было их призывать? Я продолжаю думать, что «На дне» – совершеннейшая пье-
са нового времени во всей мировой литературе. Я воспринял ее как трагедию и до сих пор
так ее ощущаю, хотя на сцене ее трагические моменты, вероятно по недоразумению, затуше-
ваны. Лукавый старец Лука с его водянистым бальзамом именно потому, что он ласков и
бессилен, страшным образом подчеркивает обреченность, безнадежность всего ночлежного
мира и сознательно ощущает ужас этой безнадежности.
Лука – образ высокого напряжения, выраженный в исключительной силе противоречия
между его мудрым безжалостным знанием и его не менее мудрой жалостной ласковостью.
Это противоречие трагическое и само по себе способно оправдать пьесу. Но в пьесе звучит и
другая, более трагическая линия, линия разрыва между той же безжалостной обреченностью
и душевной человеческой прелестью забытых «в обществе» людей. Великий талант Максима
Горького сказался в этой пьесе в нескольких разрезах и везде одинаково великолепен. Он
блещет буквально в каждом слове, каждое слово здесь – произведение большого искусства,
каждое вызывает и мысль, и эмоцию.
Я вспоминаю руки Бубнова, руки, которые кажутся такими прекрасными в прошлом, ко-
гда они были грязными от работы, и такими жалкими теперь, когда они «просто грязные».
Вспоминаю бессильный вопль Клеща: «Пристанища нету!» – и всегда ощущаю этот вопль
как мой собственный протест против безобразного, преступного «общества». И то, что Горь-
кий показал ночлежку в полном уединении от прочего мира, у меня лично всегда вызывало
представление как раз об этом «мире». Я всегда чувствовал за стенами ночлежки этот
















