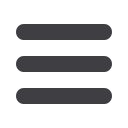

266
Горький приходил к нам не в постоянном блеске человеческой культуры, как привычное
наше явление, а только изредка и вдруг огненной стрелой резал наше серое небо, а после
этого становилось еще темнее. Но мы уже не могли забыть об огненной стреле и мучительно
старались понять, что мы увидели в мгновенном ее сверкании. Одной из таких молний был и
«Челкаш». Трудно сейчас восстановить и описать тогдашнее наше впечатление от «Челка-
ша».
Но нам уже было ясно, что Максим Горький не просто писатель, который написал рассказ
для нашего развлечения, пусть и больше: для нашего развития, как тогда любили говорить.
Мы чувствовали, что Максим Горький искренней и горячей рукой лезет в нашу душу и выво-
рачивает ее наизнанку. И оказывается, что изнанка нашей души вовсе уже не такая плохая.
Ибо с лицевой стороны на нашей душе много накопилось той гадости, которая, как потом ока-
залось, была крайне необходима для мирного прозябания Российской империи.
Разве мы все не были обречены переживать нищенские идеалы Гаврилы, разве в нашей
жизни были какие-нибудь пути, кроме путей приблизительно Гаврилиных? Как-нибудь, на
«крепкий грош» пристроиться на обочине жизни, равнодушно «завести коровку» и еще более
равнодушно вместе с этой коровкой перебиваться с хлеба на квас... и так всю жизнь, и детям
своим с христианским долготерпением и прочими формами идиотизма готовить ту же
участь. На этой обочине жизни кишмя кишело такими Гаврилами – их было десятки миллио-
нов.
А самая дорога жизни была предоставлена господам. Они мелькали мимо нас в каретах и
колясках, блистали богатством, красивыми платьями и красивыми чувствами, но в общем мы
редко видели их, большей частью видели только их лошадей, их кучеров, мелькающие спи-
цы их экипажей да еще пыль, которую они поднимали. И жизни господ мы не знали, даже
жизнь их лакеев и кучеров была для нас далекой, непонятной, «высшей» жизнью, такой же
недоступной, как и та дорога, на обочинах которой мы копошились.
Мы привыкли к мысли, что обочина для нас неизбежна, что все проблемы жизни заклю-
чаются в том лишнем гроше, который нам удается заработать или выпросить. В общем, это
была мерзкая жизнь, и наибольшей мерзостью в ней был конечно так называемый кусок хле-
ба. Это была та жизнь, которую мы научились по-настоящему ненавидеть только теперь, по-
сле Октября, несмотря даже на то, что «кусок хлеба» в первые годы революции часто бывал
недоступной роскошью. Мы не умели ненавидеть и господ, мелькавших на дороге жизни,
может быть, потому, что верили в их фатальную необходимость.
И вдруг на этой самой фешенебельной, прямой и гладкой дороге замаячил Челкаш. Его
не стесняли никакие фатализмы, обычаи и правила, его не связывала никакая мода. «Он был
в старых вытертых плисовых штанах, в грязной ситцевой рубахе с разорванным воротом, от-
крывавшим его сухие и угловатые кости, обтянутые коричневой кожей».
И вот этот грязный оборванец, пьяница и вор обратился к нам с короткой речью и...
назвал нашу жизнь гнусной. А когда мы швырнули в его голову камнем, он вывернул карма-
ны и бросил нам все наворованные деньги, бросил потому, [что] презирал нас больше денег.
И только тогда мы поняли, что наша жизнь действительно гнусная, что вся наша история
сплошная мерзость и что пьяницы и воры имеют право называть нас нищими и высокомерно
швырять нам наворованные деньги. Челкаш прошел мимо нас в блеске неожиданной молнии,
и мы знали, что это идет тот, кто носит задорное, гневное и уверенно близкое нам имя: Мак-
сим Горький.
Так началось новое мое сознание гражданина. Я не могу отделить его от имени Горького,
и вместе со мной так чувствуют многие. На моих глазах задрожали вековые ночи Российской
империи и неуверенно запутались вдруг старые, испытанные человеческие пути.
И тот же чудесный бродяга, так мило показавший нам гнусность нашей жизни, тот же
широконосый Максим Горький делался не только нашим укором, но и нашей радостью, ко-
гда весело и страстно сказал:
















