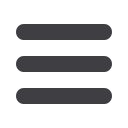

268
самый так называемый мир, слышал шум торговли, видел разряженных бар, болтающих ин-
теллигентов, видел их дворцы и «квартиры»... и, тем больше ненавидел все это, чем меньше
об этом «мире» говорили жители ночлежки...
Мой товарищ Орлов
3
, народный учитель, с которым я был на спектакле, выходя из теат-
ра, сказал мне:
– Надо этого старичка уложить в постель, напоить чаем, укрыть хорошенько, пускай от-
дыхает, а самому пойти громить всю эту... сволочь...
– Какую сволочь? – спросил я.
– Да вот всех, кто за это отвечает.
«На дне» прежде всего вызывает мысль об ответственности, иначе говоря, мысль о рево-
люции. «Сволочи» ощущаются в пьесе как живые образы. Вероятно, для меня это яснее, чем
для многих людей, потому что вся моя последующая жизнь была посвящена тем людям, ко-
торые в старом мире обязательно кончали бы в ночлежке.
А в новом мире... здесь невозможно никакое сравнение. В новом мире лучшие деятели
страны, за которыми идут миллионы, приезжают в коммуну им. Дзержинского, бывшие кан-
дидаты в ночлежку показывают им производственные дворцы, пронизанные солнцем и сча-
стьем спальни, гектары цветников и оранжереи, плутовато-дружески щурят глаза в улыбке и
говорят:
– А знаете что, Павел Петрович?
4
Мы эту хризантему вам в машину поставим, честное
слово, поставим. А только дома вы ее поливайте.
– Убирайтесь вы с вашей хризантемой, есть у меня время поливать...
– Э, нет, – возмущается уже несколько голосов, – раз вы к нам приехали, так слушайтесь.
Понимаете, дисциплина…...
Но так получается теперь, когда ответственность «общества» реализована в приговоре
революции. А тогда получалось иначе. Предреволюционное мещанство хотело видеть в пье-
се только босяков, бытовую картину, транспарант для умиления и точку отправления для
житейской мудрости и для молитвы: «Благодарю тебя, господи, что я не такой, как они». Са-
мое слово «босяки» сделалось удобным щитом для закрывания глаз на истинную сущность
горьковской трагедии, ибо в этом слове заключается некоторое целительное средство, в нем
чувствуется осуждение и отграничение...
Максим Горький сделался для меня не только писателем, но и учителем жизни. А я был
просто «народным учителем», и в моей работе нельзя было обойтись без Максима Горького.
В железнодорожной школе, где я учительствовал, воздух был несравненно чище, чем в дру-
гих местах; рабочее, настоящее пролетарское общество крепко держало школу в своих руках,
и «Союз русского народа» боялся к ней приближаться. Из этой школы вышло много больше-
виков
5
.
И для меня, и для моих учеников Максим Горький был организатором марксистского
мироощущения. Если понимание истории приходило к нам по другим путям, по путям
большевистской пропаганды и революционных событий, по путям нашего бытия в особен-
ности, то Горький учил нас ощущать эту историю, заражал нас ненавистью и страстью и еще
большим уверенным оптимизмом, большой радостью требования: «Пусть сильнее грянет бу-
ря!»
Человеческий и писательский путь Горького был для нас еще и образцом поведения. В
Горьком мы видели какие-то кусочки самих себя, может быть, даже бессознательно мы видели
в нем прорыв нашего брата в недоступную для нас до сих пор большую культуру. За ним нуж-
но было броситься всем, чтобы закрепить и расширить победу. И многие бросились, и многие
помогли Горькому...
Бросился, конечно, и я. Мне казалось некоторое время, что это можно сделать только в
форме литературной работы. В 1914 г. я написал рассказ под названием «Глупый день»
6
и
послал Горькому. В рассказе я изобразил действительное событие: поп ревнует жену к учи-
телю, и жена, и учитель боятся попа; но попа заставляют служить молебен по случаю откры-
тия «Союза русского народа», и после этого поп чувствует, что он потерял власть над женой,
потерял право на ревность, и молодая жена приобрела право относиться к нему с пре-
















