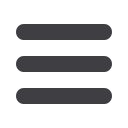

147
Давно кончился день. Только в окне сторожевого отряда ярко горит электрическая лам-
па. По прохладной земле еле слышно проходит охрана, если там нет Миши Овчаренко. Ми-
ша всегда что-нибудь напевает, не обнаруживая, впрочем, в своем пении ни приятного голо-
са, ни чрезмерного уважения к неприкосновенности песенного мотива. Поэтому многие про-
сят Мишу не петь по ночам, но я люблю, когда Миша поет. Мишино пение обозначает пол-
ное благополучие в колонии – поезд почти бесшумно бежит по рельсам, станция еще далеко,
можно спать спокойно.
Но и Мишино пение бывает обманчиво. В одну из таких спокойных ночей я сквозь сон
начинаю различать огни незнакомой чужой станции. В мои двери бьют изо всех сил, и не
слышно никакого мирного пения. Кое-как одеваюсь, выскакиваю. Миша и Галатенко стоят
на крыльце, но их привычные фигуры нарисованы не на знакомом фоне колонистской ночи,
а черт его знает на чем: ночь наполнена отчаянным воплем, я даже не разбираю сразу, откуда
идут эти ужасные крики.
– Что это такое?– спрашиваю я.
– Вы понимаете?– говорит Миша.
Мы подходим к обрыву горы. Вопль стоит такой многоголосый, такой всепокрывающий,
что у меня не возникает никаких сомнений: на село напала банда, здесь почти под нашими
ногами происходит поголовная резня. Я начинаю различать стоны умирающих, последние
взвизги жертв, когда нож уже полоснул по горлу, панический, бесполезный вой беглецов, на
которых уже напали, над которыми уже занесен меч или кривая татарская сабля.
– Давай тревогу, – кричу я Мише и сам бегом спешу за револьвером. Через полминуты я
снова над обрывом, вопли еще шире, еще отчаяннее. Я подаю в дуло патрон и почти теря-
юсь: что делать? Но из спален глухо доносится сигнал, и сейчас же вырывается на двор,
оглушая меня, нестерпимая песня тревоги. Я спускаюсь по лестнице, и меня немедленно об-
гоняют низвергающиеся вниз, как лавина, колонисты. Что они там будут делать с голыми
руками? Но я не успел дойти до пруда, как крики мгновенно прекратились. Значит, колони-
сты что-то сделали. Мы с Галатенко побежали вокруг пруда.
На огромном дворе Ефима Хорунженко собралась вся колония. Таранец берет меня за
руку и подводит к центральному пункту события. Между крыльцом и стеной хаты забилось в
угол и рычит, и хрипит, и стонет живое существо. Таранец зажигает спичку, и я вижу свер-
нувшуюся в грязный комок, испачканную кровью, взлохмаченную голую женщину. С
крыльца прыгает Горьковский и подает женщине какую-то одежду. Она неожиданно вытя-
нувшейся рукой вырывает у Витьки эту вещь и, продолжая рычать и стонать, натаскивает ее
на себя.
– Да кто это кричал?
Таранец показывает на плетень вокруг двора. Он весь унизан белыми пятнами бабских
лиц.
С другой стороны крыльца колонисты насилу удерживают, повиснув на руках, широко-
плечую размазанную в темноте фигуру. Фигура источает уже охрипшие матерные проклятия
и густые волны перегара.
– Пустите! Пустите! Какое ваше дело сюда мешаться? Все равно убью...
Это член церковного совета Ефим Хорунженко. Когда я подхожу к нему, он на меня вы-
ливает целое ведро отборной матерщины, плюется и рычит.
– Колонии позаводили! Народ грабите, байстрюков годуете! Иди с моего двора, сволочь,
жидовская морда! Эй, люди! Спасите, гоните их, сукиных сынов!
Хлопцы хохочут и спрашивают:
– Эй, дядя, может, купаться хочешь? Пруд близко, смотри поплаваешь.
Хорунженко вдруг затихает и перестает вырываться из рук.
Я приказываю ребятам отвести его в колонию. Хорунженко вдруг начинает просить:
– Товарищ начальник, простите, бывает же в семействе...
















