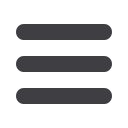

144
и, кроме того, принципиально бессмертный. Кащей Бессмертный выдавал нам деньги полу-
месячными долями, и его жёлтые глаза торчали над каждым нашим карманом:
– Как же это? – скрипел он. – Как же вы допускаете такое своеволие: Вам было выдано
115 рублей на обмундирование, а вы приобрели на них какие-то доски! На обмундирование
вам было выдано! На доски вам ничего не полагается.
– Товарищ Кащей! С обмундированием мы можем подождать, а доски – это материал,
мы из него сделаем вещи, продадим и будем иметь прибыль, потому что в доски мы вложили
труд, и труд будет оплачен.
– Не говорите это, не говорите. Какие там доски и какие там прибыли? Вам выдано на
обмундирование.
– Но лучше же будет, если эти 115 рублей мы обернём в нашем производстве. Мы обра-
тили их в 300 рублей и 300 рублей истратим на обмундирование.
– Вы не можете истратить больше, чем вам разрешено. Вам разрешено 27 рублей в год на
человека. Если вы получите прибыль, мы сократим вашу смету.
Великий мыслитель и великий ученый Чарльз Дарвин. Но он был бы еще более великим,
если бы наблюдал нас, заведующих колониями. Он бы увидел совершенно исключительные
формы приспособления, мимикрии, защитной окраски, поедания слабейших, естественного
отбора и прочих явлений биологии. Он бы увидел, с какой гениальной приспособляемостью
мы все-таки покупали доски и делали кое-что, как быстро и биологически совершенно мы
все-таки обращали 115 рублей в 300 и приобретали поэтому не бумажные костюмы, а сукон-
ные, а потом, дождавшись очередной сутолоки у Кащея Бессмертного, представляли ему
каллиграфически выписанный отчет.
Окрасившись в зеленый цвет, цвет юности, надежды и соцвоса, мы прятались на общем
фоне наркомпросовской зелени и, затаив дыхание, слушали кащеевские громы, угрозы наче-
тами и уголовщиной. Мы даже видели, как, распростершись на сухих крючковатых крыльях,
Кащей Бессмертный ширял над нами и клевал наших коллег, защитная окраска которых бы-
ла хуже сделана, чем у нас.
Заведующий колонией вообще существо недолговечное. Где-то у Дарвина, а может быть,
у Тимирязева, а может, еще у кого подсчитано, какое большое потомство у мухи или у оду-
ванчика и какой грандиозный процент его погибает в борьбе за существование. К мухам и
одуванчикам нужно приписать нас, заведующих детскими колониями. Одни из нас погибали
от непосредственной бедности, замученные бурьяном забот и обследований, их десятками
проглатывали кооперативные, торговые и иные организации, других в самые первые момен-
ты после рождения поедала мамаша, родившая их, – есть такие мамаши, и такой мамашей
часто бывал Наркомпрос, третьих клевал Кащей Бессмертный, четвертых клевали иные пти-
цы: народный суд, милиция.
Очень немногие выживали и продолжали ползать на соцвосовских листьях, но и из них
большинство предпочитало своевременно окуклиться и выйти из кокона нарядной бабочкой
в образе инспектора наробраза или инструктора. А таких, как я, были сущие единицы, и во
всем Союзе, может быть, я второй-третий человек, восемь лет просидевший на беспризорной
капусте. Почему я оказался более приспособленным, не знаю, но тем не менее до поры до
времени мы жили.
В колонии скоро завелось настоящее производство. Разными правдами и неправдами мы
организовали деревообделочную мастерскую, с хорошими станками: строгальным, фуго-
вальным, пилами, сами изобрели и сделали шипорезный станок. Мы заключали договоры,
получали авансы и дошли до такого нахальства, что открыли даже в банке [свой] кредитный
счёт.
Колонисты с большой охотой пошли на производственную работу, они не
испугались машин, не испугались разделения труда. Нам запрещалась зарплата,
но и в этом вопросе мы обходили камни идеализма и тоже приспособились:
















