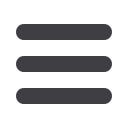

209
сущности, попыткой изменить бедственное положение этой самой личности, сохраняя классовую
структуру общества.
В то же время давно не вызывала сомнений аксиома: человеческое счастье может быть
реализовано только в живой, отдельной человеческой жизни. Жизнь личности всегда оставалась
единственным местом, где счастье можно было увидеть, где уместно было его искать. Стремление
к счастью всегда было естественным и полнокровным стремлением, и даже самые дикие самодуры
и насильники не решались открыто говорить о человеческом счастье сколько–нибудь
пренебрежительно. Тем более искренние и горячие слова о счастье всегда были написаны на
революционных знаменах, особенно тогда, когда за этими знаменами шли трудящиеся массы.
Несмотря на длящийся веками опыт народного страдания, люди всегда верили, что счастье
есть законная норма человеческой жизни, что оно может быть и должно быть обеспечено и
гарантировано в самом устройстве общества. И поэтому людям всегда казалось, что грядущая
победа революции есть завоевание всеобщего счастья. Французская революция проходила под
лозунгом «прав человека и гражданина», и многим тогда казалось, что хорошее право –
прекрасный путь для общественного счастья. И в Манифесте Емельяна Пугачева 1774 г. было
написано:
« …По истреблению которых противников и злодеев дворян всякой может восчувствовать
тишину, спокойную жизнь, коя до века продолжаться будет».
«Тишина и спокойная жизнь» – это программа–минимум того народного счастья, о
котором так долго мечтали трудящиеся массы старой России и которого так долго они не могли
дождаться.
Так проходили века и тысячелетия. Кровопролитные войны сменялись миром, революции
сменялись «покоем», плохие законы – хорошими законами, дурные правители – правителями
мудрыми, а народное счастье, гарантированное идеей солидарного человеческого общества, все
оставалось мечтой, настолько далекой, что вслух о ней могли говорить только люди, заведомо
непрактичные. Счастье как функция человеческого общества исчезло очень давно из обычной
логики, и это исчезновение не могли компенсировать даже самые передовые лозунги.
Истинной хозяйкой счастья, понимаемого уже как атрибут отдельной личности без всякого
намека на какое бы то ни было общественное устройство, была судьба.
Институт судьбы, как известно, очень древний институт, созданный еще в те времена, когда
воля богов считалась главной двигательной силой, когда в сравнении с ней законы общественные
имели явно второстепенное значение. В этой глубокой древности компетенция судьбы была
чрезвычайно обширна, даже боги подчинялись ее роковым указаниям. Действия судьбы в то время
были действиями фатума, безраздельно тяготевшими над смертными и над бессмертными, фатума
слепого, безразличного к вопросам счастья или несчастья, не имеющего ни цели, ни смысла.
Таким дошел до нас портрет древней судьбы, прародительницы всех других, более поздних
исторических судеб.
Потом на глазах истории эта физиономия судьбы сильно изменилась, но память о древнем
портрете до сих пор живет в народе. В этой памяти удары или ласки судьбы представляются
случайными и слепыми ее подарками. Но эта память живет только в фольклоре, среди столь же
древних осколков «языческих» культов и пантеистических рудиментов. Передовая человеческая
мысль успешнее разобралась в истинном портрете настоящей, а не мифической судьбы.
В самые мрачные годы николаевской России у М. Ю. Лермонтова сложились такие стихи:
За каждый светлый день иль сладкое мгновенье
Слезами и тоской заплатишь ты судьбе
1
.
Эта судьба уже не безразлична к вопросам человеческой радости. Она не слепо
разбрасывает наслаждения и горе, и для нее, собственно говоря, счастье принципиально
неприемлемо. Она прямо враждебна человеку. Ревниво
















