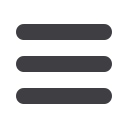

62
новенький, Ваня. Когда на общем собрании их вывели на середину, кто-то сказал: «Зачем Ваня стоит,
ведь он новенький».
Тогда он возмутился: «Как это я не отвечаю?» Пришел случай наказать, а тут отвод. Он в сле-
зы: «Как вы меня оскорбляете, почему хотите отпустить?» И собрание решило, так как он хлопец хо-
роший и ничем плохим себя не проявил, - прощать нельзя, нужно наказать.
Вот этой логики
8
я тогда не понимал. Когда собрание постановило, прошли у Вани слезы, и
он очень виноватым голосом оправдывался, что у него нет никакой литейной лихорадки, что он бес-
покоился об общих интересах. А против них выступали, что их нужно взгреть, и даже предложили
снять звание коммунаров и значки. Ограничились тем, что постановили 1 Мая, когда построятся идти
на парад, перед строем, при знамени прочитать им выговор. Для них это было большое преступление
– неподчинение приказу, и потом ходили разговоры по колонии, что их слишком строго наказали, но
оскорбиться из-за наказания считалось большим позором.
Вот такая ответственность перед коллективом, когда она приобретает такой характер спаян-
ности, что освобождение от ответственности кажется освобождением от коллектива, вот такого рода
дисциплина показывает сбитость коллектива.
Конечно, бывали случаи очень жестоких наказаний, которые я никак не мог одобрить, но не
отрицаю того, что эта жестокость наполняла коллектив единством, глубокой гордостью, что человек
принадлежит коллективу.
Как-то раз у меня случилось большое несчастье. Дежурный бригадир, который вел коммунар-
ский день, которому оказывалось большое доверие, с которым в течение дня нельзя говорить без по-
ложения «смирно», заявил, что у мальчика Мизяка
9
пропал радиоприемник, купленный на заработан-
ные им деньги.
Вечером на общем собрании (а общее собрание было [почти] ежедневно) этот самый дежур-
ный бригадир Иванов
11
разбирал это дело. Вора найти не могли. Воровства в коммуне вообще не бы-
ло. На другой день утром пацаны пришли и сказали мне, что на сцене под суфлерской будкой под
полом стоит радиоприемник. Они сказали: «Мы спрячемся за кулисы и посмотрим, кто его возьмет».
Они три дня простояли за кулисами не выходя, стояли не дыша и дожидались. Тот, кто украл, тоже
был осторожен. Иванов придет, станет на сцене, потом прыгнет вниз, постоит и уйдет. Так продол-
жалось несколько дней. Фактически никаких доказательств нет. Пацаны больше терпеть не могут. И
они решили. Когда вошел Иванов, они все хором сказали: «Ты взял радиоприемник». И тот был пой-
ман.
Его судило общее собрание, и не за то, что он украл и сам разбирал дело, а за то, что он спря-
тал радиоприемник в самой колонии и мучил бедных пацанов и хотел продать приемник. Собрание
постановило – выгнать. Выгнать из коммуны – это значит под открытое небо. Я не утвердил поста-
новление. Они кричали возле моего кабинета целый вечер, что я зажимаю самокритику, что разру-
шаю коммуну, и по телефону заявили протест в НКВД о моих неправильных действиях. Прибыли из
НКВД, уговаривали их: «Что вы делаете, нельзя выгнать».
Они слушают, аплодируют, а голосуют за то, чтобы выгнать. На третий день приехал началь-
ник и пристыдил их. «Не стыдно ли вам, что в коммуне живут изверги?» Все смеются. Тогда этот че-
кист говорит: «Преклоняюсь перед вашим единством, перед вашей уверенностью в себе. Неправиль-
но мы слюнтяйничали, нельзя прощать таких врагов. Правильно вы поступили».
Его, [Иванова] выгнали, но тут же за воротами его взял милиционер и перевез в другую коло-
нию (конечно, коммунары об этом и не знали и считали, что его выгнали на все четыре стороны). И
теперь еще, когда я говорю уже со студентами (бывшими коммунарами), что он пропал, они говорят,
что так ему и надо, что таким нечего жить на земном шаре.
Это жестокость, с которой нужно бороться, и я с ней боролся по мере сил,
но эта жестокость говорит о том, что здесь есть коллективный интерес, коллективный
















