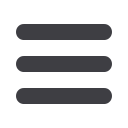

321
«В нашу глушь имя: Максим Горький – пришло с большим опозданием: его «Песню о
буревестнике» я прочитал в 1903 г…. Было трудно понять, почему «Челкаш» забирает нас за
живое… Батько мой был человеком старого стиля, он учил меня на медные деньги, впрочем,
других у него и не было.
Учили меня книги, в этом деле таким надежным для многих людей сделался пример
Максима Горького: в моем культурном и нравственном росте он определил все.
Горький вплотную подошел к нашему человеческому и гражданскому бытию. Особен-
но после 1905 г. его деятельность, его книги и его удивительная жизнь сделались источником
наших размышлений и работы над собой…
Максим Горький стал для меня не только писателем, но и учителем жизни. А я был
просто «народным учителем»… В железнодорожной школе, где я учительствовал, воздух был
гораздо чище, чем в других местах: рабочее, настоящее пролетарское общество крепко дер-
жало школу в своих руках, и «Союз русского народа» боялся к ней приближаться…
Свою учительскую деятельность ставил очень высоко,… она была более или менее
удачна…
Горьковский человек всегда в обществе, всегда видны его корни, он прежде всего соци-
ален… У Горького каждый человек хорошо. Хорош не в моральном и социальном смысле, а в
смысле красоты и силы…
Даже настоящие «враги» Горьким так показаны, что ясно видны их человеческие силы
и лучшие человеческие потенциалы… Прекрасные человеческие характеры, развращенные и
исковерканные в наживе, несправедливом властвовании, в неоправданной социальной силе, в
нетрудовом опыте…
Умению проектировать в человеке лучшее, более сильное, более интересное нужно
учиться у Горького…
Он никогда не принижает своего требования к человеку и никогда не остановится пе-
ред самым суровым осуждением…
Сочетание горьковского оптимизма и требовательности есть «мудрость жизни». Я чув-
ствовал, с какой страстью Горький находит в человеке героическое, как любуется скромно-
стью человеческого героизма, как вырастает по-новому героическое в человечестве». (Часть 4,
с. 265 – 270).
______________________
«С юношеских дней отдельная, какая-то особенная, светлая и тревожная память оста-
лась о «Слове о полку Игореве»… Русская литература в нашем представлении начиналась с
конца XVIII в., а до этого – многовековое однообразное протяжение несчастья, нищеты и кос-
ноязычия…
И вдруг вспомнил о «Слове», вспомнил с неожиданным, непонятным удивлением,… с
благодарностью неведомому чудесному поэту, полному страсти и очарования, искренности и
красоты, мужества и торжественности.
Мы не могли тогда еще различать, объясняется наше впечатление могучей силой само-
го «Слова» или силой души Мефодия Васильевича Нестерова, нашего преподавателя словес-
ности… Мы в то время еще не вполне ясно различали за его фигурой великие тени революци-
онных демократов – Чернышевского, Добролюбова, Некрасова…
Мы два раза видели, как он плакал во время лекции. Первый раз это было, когда он го-
ворил о «Песне про купца Калашникова», но тогда он плакал скромно и пытался показать, как
будто у него глаз засорился. А передавая «Слово о полку Игореве», он плакал свободно и до-
верчиво, и мы преклонялись и перед его стариковской слезой, и перед силой «Слова»…
Он опускал голову и говорил тихо:
- Юноши! Много страдания у этого поэта. Погибла русская земля, погибали доблест-
ные люди от эгоизма, от жадности, от разделения: «Это мое и то мое же». Погибла красивая,

















