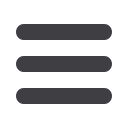

63
ному, бесполезному, даже опасному вранью составляет драгоценную ху-
дожественную подробность русского духа. У меня был тесть-рыбак, ко-
торый объявлял свой улов в центнерах. Соль – в масштабе. Гипербола
превращает ложь в эпос: до забора, говорил Ноздрев, мое, и за забором –
мое. Вдуматься только: такое ведь и Наполеону не снилось.
Однако к Перову все это не имеет отношения. С чего мы, собствен-
но, взяли, что охотник врет? Напротив, у нас есть все основания ему ве-
рить, потому что тут же, не отходя от кассы, представлены доказа-
тельства меткости: заяц и две утки, обитающие сразу в трех сферах.
Дичь и возвращает нас к заявленному художником сюжету.
Картина Перова вроде оптического фокуса, который прячет оче-
видное у всех на виду, зная, что мы норовим искать разгадку только в
спрятанных деталях. Вот и здесь мы не замечаем того бесспорно главно-
го, что Перов изобразил, да и назвал в подписи к своему полотну – самих
охотников. Между тем в них сосредоточен подспудный смысл полотна.
Охотник – ключевая фигура любой культуры. Он – трансформатор,
переводящий пещерный обиход в цивилизованное хобби, промысел – в раз-
влечение, необходимость – в роскошь. Суммируя нашу историю, начиная с
мамонтов, охота служит наглядной формулой эволюции. Реликт перво-
бытной демократии, она разрушает социальные преграды. Как война,
охота всех уравнивает в правах и обязанностях. Поэтому в “Войне и ми-
ре” егерь в сердцах называет графа жопой. Поэтому лишь тогда, когда
Тургенев взял ружье, ему удалось по-настоящему познакомиться с кре-
стьянами. Поэтому все кандидаты в американские президенты, включая
баптистского проповедника и немолодую даму, бахвалятся перед избира-
телями охотничьей добычей.
Значительность охотничьего мотива намекает на подлинную драму
перовского полотна. Она, если присмотреться к этому таинственному
холсту, вовсе не сводится к водевилю, каким поколения учителей тешили
школьников.
Перов срифмовал свою картину с тремя видами живописи, которые
друг с другом не сливаются, а стыкуются, причем так, что видны швы.
Задник отдан пейзажу – дикому, неочеловеченному, безнадежно хо-
лодному и неприютному. Это – зона доисторической природы, еще не
тронутой нашей рукой. Здесь водятся птицы, но могли бы и птеродакти-
ли.
В центре картина переходит в жанр, то есть, как тогда его опре-
деляли, в “сцену из текущей жизни”.Участвующие в ней лица представ-
ляют три возраста и, судя по наряду, три сословия провинциальной Рос-

















