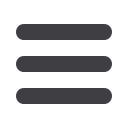
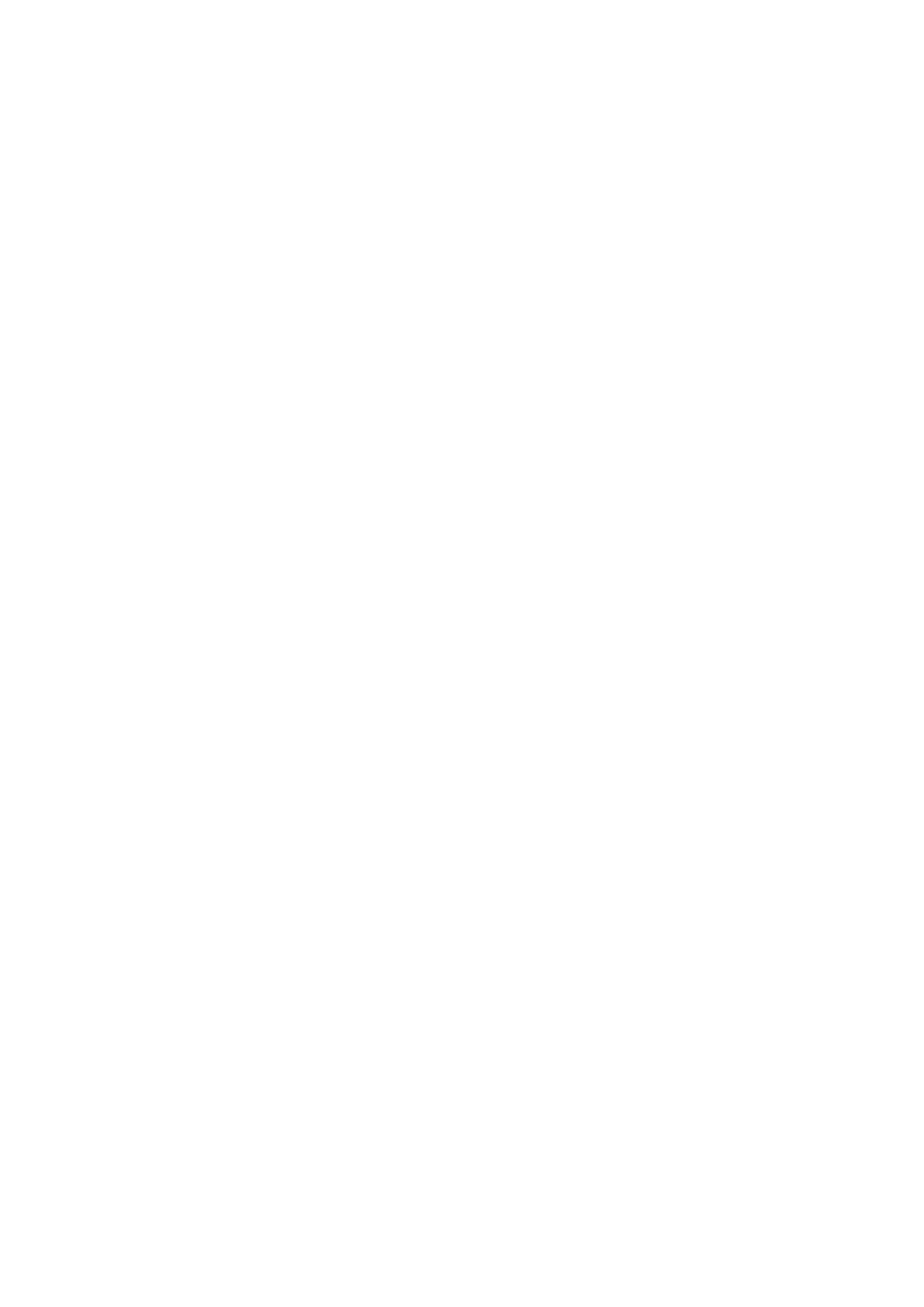
288
– Я буду защищаться, так мне еще больше будет попадать.
– Пускай попадает, а ты защищайся...
К моему удивлению, Перепелятченко принял мой совет всерьез и в ближайшие дни
вступил в драку с каким-то задирчивым соседом в столовой. Их обоих привел ко мне дежур-
ный командир. Оба размазывали кровь на лицах, желая демонстрировать как можно более
кровавое зрелище. Я обоих прогнал без всякого разбирательства. Перепелятченко после это-
го настолько вошел во вкус драчливых переживаний, что уже приходилось других защищать
от его агрессии. Хлопцы обратили внимание на это явление и говорили Перепелятченко:
– Смотри, ты даже потолстел, как будто, Перепелятченко.
И в самом деле, на наших глазах изменилась конституция этого существа. Он стал
прямее держаться, у него заблестели глаза, заиграли на костях мускулы.
И Евгеньев и Перепелятченко давно уже не беспокоили нас даже в часы серьезных
авралов и четвертых сводных. Другое дело Назаренко. Он и с виду был хорош, и учился пре-
красно, обещая быть потом незаурядным студентом, и умен был, без сомнения, и развит. Но
это был эгоист самого крупного пошиба, свою собственную пользу неспособный видеть
дальше ближайшего первичного удовлетворения. Несмотря на свой ум и развитие, он не мог
справиться с этим эгоизмом, не умел и прикрыть его какой-нибудь политикой, а открыто и
злобно ощеривался всегда, если ему казалось, будто что-нибудь грозит его интересам. В
сводных он ревниво следил, чтобы ему не выпало больше работы, чем товарищу, и вообще
старался тратить сил как можно меньше, глубоко убежденный, что работа для здоровья
вредна. Почти невозможно было заставить его сделать что-нибудь вне расписания. В этом
случае он шел на самый острый конфликт и доказывал, что никто не имеет права назначить
его на дополнительную работу. Назаренко не вступал в комсомол только потому, что не хо-
тел иметь никаких нагрузок. Он рассчитывал, что проживет и без комсомола, ибо хорошо
знал свои способности и делал на них откровенную ставку.
Я серьезно подозревал, что колонию он ненавидит и терпит ее только как наименьшее
из всех предложенных зол. Учился он настойчиво и успешно, и все считали его наилучшим
кандидатом на рабфак.
Но когда пришло время выдавать командировки на рабфаки, мы с Ковалем отказались
внести в список фамилию Назаренко. Он потребовал от нас объяснений. Я сказал ему, что не
считаю его закончившим воспитание и еще посмотрю, как он будет вести себя дальше. Наза-
ренко вдруг понял, что все это значит еще один год пребывания в колонии, сообразил, что
все приобретения его эгоизма за год ничто в сравнении с такой катастрофической потерей.
Он обозлился и закричал:
– Я буду жаловаться. Вы не имеете права меня задерживать. В институтах требуются
способные люди, а вы послали малограмотных, а мне просто мстите за то, что я не выполнял
ваших приказов.
Коваль слушал, слушал этот крик и наконец потерял терпение.
– Слушай ты,– сказал он Назаренко,– какой же ты способный человек, если ты не по-
нимаешь такого пустяка: нашим советским рабфакам такие, как ты не нужны. Ты шкурник.
Пусть будут у тебя в десять раз бόльшие способности, а рабфака ты не увидишь. А если бы
мое право, я тебя собственной рукой застрелил бы, вот здесь, не сходя с этого места. Ты –
враг, ты думаешь, мы тебя не видим?
После этого разговора Назаренко круто изменил политику, и Коваль печалился:
– Ну, что ты будешь делать, Антон Семенович? Смотрите, как гад прикидывается. Ну,
что я могу сделать, он же меня обманет, сволочь, и всех обманет.
– А вы ему не верьте.
– Да какое же право я имею не верить. Вы смотрите: он и работает, он и газету, и на
село, и в город, и мопр, как только что-нибудь сделать, он уже тут,
















