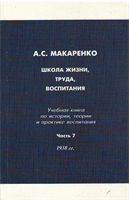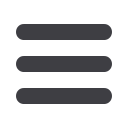

239
орнаментами культуры, так сказать, капиталистической, с маленьким креном в уголовщину.
Небольшая группа педагогов, людей обыкновенных и добродушных, по случайной
раскладке заняла этот скромный участок революционного фронта. Во главе группы был
Захаров, человек тоже обыкновенный. Необыкновенным и ошеломляющим в этом зачине
было одно: Октябрьская революция и новые горизонты мира. И поэтому Захарову и его
друзьям задача казалась ясной: воспитать нового человека! В первые же дни выяснилось, что
дело это очень трудное и длинное. Тысячи дней и ночей — без передышки, без успокоения,
без радости — пришлось пережить Захарову, но и после этого до нового человека оставалось
еще очень далеко.
К счастью, Захаров обладал талантом, довольно распространенным на восточной
равнине Европы, — талантом оптимизма, прекрасного порыва в будущее. В сущности, это
даже и не талант. Это особое, чисто интеллектуальное богатство русского человека, человека
со здоровой башкой и зорким глазом, умеющего различать ценности. До Октябрьской
революции этим богатством души и веры спекулировали хозяева жизни, обращая веру в
доверчивость, а оптимизм в беззаботность, расценивая эти качества как особые атрибуты
замечательного «русского» прекраснодушия.
И народная вера в разум, в цену ценностей, в истину и правду, в общем, была
выведена за границы практической жизни, в область легенд, сказаний и анекдотов,
приноровленных для развлечения. Оптимистической силе русского народа потом приделали
тульской работы ярлычок и написали на нем с самоуничижительным юмором: «Авось,
небось и как-нибудь». И осталось для оптимизма прилично нищенское место, над которым
можно было и посмеяться с европейским высокомерием, и поплакать с русской тоской.
В порядке не то высокомерия, не то тоски поставили на этом самом месте
беломраморный дворянский памятник и написали на нем вдохновенные слова поэта:
Не поймет и не заметит
Гордый взор иноплеменный,
Что сквозит и тайно светит
В наготе твоей смиренной.
Удрученный ношей крестной,
Всю тебя, земля родная,
В рабском виде царь небесный
Исходил, благославляя
2
.
Это и все, что осталось от великолепного русского оптимизма к началу двадцатого
века: наивность и умиление. Ибо только безгранично наивный человек не мог понять, что
светит в смиренной наготе. Люди более практические ухмылялись в бороды: русский
человек ограблен был весьма успешно, а по оптимизму своему даже и не обижался.
И только в 1917 г. неожиданное обнаружилось, что народный оптимизм есть нечто
гораздо более сильное и гораздо менее безобидное. Без всякого расчета на «авось» и «как-
нибудь», чрезвычайно основательно, с настоящей деловитостью, русский народ выгнал
старомодных эстетов «за Черное море», и очистилось место для новой эстетики и для нового
оптимизма.
Вероятно, в Западной Европе и до сих пор еще не могут понять, откуда у нас
взялись простота и уверенность действия? Советский человек показал себя не только
в пафосе загоревшихся глаз, не только в усилии волевого взрыва, но и в терпеливых
ежедневных напряжениях, в той черной, невидной работе, когда будущее начинает
просвечивать в самых неуловимых и тонких явлениях, настолько нежных, что