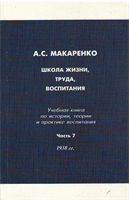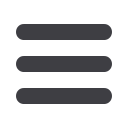

241
жилах пульсировала новая, социалистическая кровь, имеющая способность убивать
вредоносные бактерии старого в первые моменты их зарождения.
В колонии перестали бояться новеньких, и Захаров потушил в себе последние остатки
уважения к эволюционной постепенности. Однажды летом он произвел опыт, в успехе
которого не сомневался. В два дня он принял в колонию пятьдесят новых ребят. Собрали их
прямо на вокзале, стащили с крыш вагонов, поймали между товарными составами. Сначала
они протестовали и «выражались», но специально выделенный «штаб» из старых колонистов
привел их в порядок и заставил спокойно ожидать событий. Это были классические фигуры
в клифтах
3
, все они казались брюнетами, и пахло от них всеми запахами «социальной
запущенности». Ближайшее будущее представлялось им в тонах пессимистических, дело
было летом, а летом они привыкли путешествовать — единственное качество, которое
сближало их с английскими лордами. То, что произошло дальше, Захаров называл «методом
взрыва», а колонисты определяли проще: «Пой с нами, крошка!»
Колония встретила новеньких на вокзальной площади, окруженная тысячами
зрителей, встретила блестящим парадом, строгими линиями развернутого строя, шелестом
знамен и громом салюта «новым товарищам». Польщенные и застенчивые, придерживая
руками беспомощные полы клифтов, новенькие заняли назначенное для них место между
третьим и четвертым взводами.
Колония прошла через город. На привычном фоне первомайцев новенькие и на себя и
на других произвели сильное впечатление. На тротуарах роняли слезы женщины и
корреспонденты газет.
Дома, после бани и стрижки, одетые в форменное платье, румяные, смущенные до
глубин своей души и общим вниманием, и увлекательной придирчивостью дисциплины,
новенькие подверглись еще одному взрыву. На асфальтовой площадке, среди цветников
были сложены в большой куче их «костюмы для путешествий». Политое из бутылки
керосином, «барахло» это горело буйным, дымным костром, а потом пришел Миша Гонтарь
с веником и ведром и начисто смел жирный мохнатый пепел, подмаргивая хитро
ближайшему новенькому:
— Вся твоя биография сгорела!
Старые колонисты хохотали над Мишиным неповоротливым остроумием, а
новенькие оглядывались виновато: было уже неловко.
После этой огневой церемонии
4
начались будни, в которых было все что угодно, но
почти не было пресловутой перековки: новенькие не затрудняли ни коллектив, ни Захарова.
Захаров понимал, что здоровая жизнь детского коллектив законно и необходимо
вытекает из всей советской действительности. Но другим это не казалось таким же законным
явлением. Захаров теперь мог утверждать, что воспитание нового человека — дело
счастливое и посильное для педагогики. Кроме того, он утверждал, что «испорченный
ребенок» — фетиш педагогов — неудачников. Вообще он теперь многое мог утверждать, и
это больше всего раздражало любителей старого.
Старое — страшно живущая вещь. Старое пролезает во все щели нашей жизни и
очень часто настолько осторожно, умненько выглядывает из этих щелей, что не всякий его
заметит. Нет такого положения, к которому старое не сумело бы приспособиться. Казалось
бы, что может быть священнее детской радости и детского роста? И все это утверждают, и
все исповедуют, но…
Приезжает в колонию человек, ходит, смотрит, достает блокнот и еще не успел вопрос
поставить, а глаза его уже увлажняются в предчувствии романтических переживаний.
— Ну… как?
— Что вам угодно?
— Как вы… вот… с ними… управляетесь?
— Ничего… управляемся.