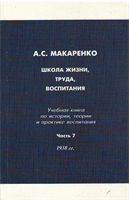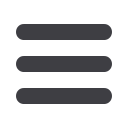

240
заметить их может только тот, кто стоит у их источника, кто не отходит от них ни
помышлением, ни физически.
После многих дней и ночей, после самых бедственных разочарований и срывов,
отчаяния и слабости наступает праздник: видны уже не мелочи и детали, а целые постройки,
пролеты великолепного здания, до сих пор жившие только в оптимистической мечте. На
таком празднике самое радостное заключается в логическом торжестве: оказывается, что
иначе и быть не могло, что все предвидения рассчитаны были точно, основаны на знании, на
ощущении действительных ценностей. И был вовсе не оптимизм, а реалистическая
уверенность, а оптимизмом она называлась из застенчивости.
И Захаров прошел такой тяжелый путь — путь оптимиста. Новое рождалось в густом
экстракте старого: старых бедствий, зависти, озлобления — толкотни и тесноты
человеческой и еще более опасных вещей: старой воли, старых привычек и старых образцов
счастья. Старого обнаружилось очень много, и оно не хотело умирать мирно, оно
топорщилось, становилось на пути, наряжалось в новые одежды и новые слова, лезло под
руки и под ноги, говорили речи и сочиняло законы воспитания. Старое умело даже писать
статьи, в которых становилось на защиту советской педагогики.
Было время, когда это старое в самых новых выражениях куражилось и издевалось
над работой Захарова и тут же требовало от него чудес и подвижничества. Старое ставило
перед ним сказочно глупые загадки, формулируя их в научно-нежных словах, а когда он
совсем не по-сказочному изнемогал, старое показывало на него пальцами и кричало:
— Он потерпел неудачу!
Но пока происходили все эти недоразумения, протекали годы. Было уже много
нового, над чем хорошо следовало задуматься. Со всех сторон, от всех событий в стране, от
каждой печатной строки, от всего чудесного советского роста, от каждого живого советского
человека приходили в колонию идеи, требования, нормы и измерители.
Да, все пришлось иначе назвать и определить, новой мерой измерить. Десятки и сотни
мальчиков и девочек вовсе не были дикими зверенышами, не были они и биологическими
индивидами. Захаров теперь знал силы и поэтому мог без страха стоять перед ними с
большим политическим требованием:
— Будьте настоящими людьми!
Они с молодым, благородным талантом принимали эти требования и хорошо знали,
что в этом требовании больше уважения и доверия к ним, чем в любом «педагогическом
подходе». Новая педагогика рождалась не в мучительных судорогах кабинетного ума, а в
живых движениях людей, в традициях и реакциях реального коллектива, в новых формах
дружбы и дисциплины. Эта педагогика рождалась на всей территории Союза, но не везде
нашлись терпение и настойчивость, чтобы собрать ее первые плоды.
Старое цепко держалось на Земле, и Захаров то, и дело сбрасывал с себя отжившие
предрассудки. Только недавно он сам освободился от самого главного «педагогического
порока»: убеждения, что дети есть только объект воспитания. Нет, дети — это живые жизни,
и жизни прекрасные, и поэтому нужно относиться к ним, как к товарищам и гражданам,
нужно видеть и уважать их права и обязанности, право на радость и обязанность
ответственности. И тогда Захаров предъявил к ним последнее требование: никаких срывов,
ни одного дня разложения, ни одного момента растерянности! Они с улыбками встречали его
строгий взгляд: в их расчеты тоже не входило разложение.
Наступили годы, когда Захарову уже не нужно было нервничать и с тревогой
просыпаться по утрам. Коллектив жил напряженной трудовой жизнью, но в его