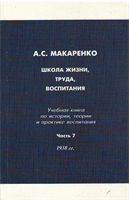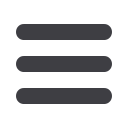

271
И вот, может быть, мой оптимизм и подвинул меня на то, что с самого первого дня, с
самого несчастного дня, когда я ударил Задорова
3
, я считал, что Задоров прекрасный человек
и должен поступать, как всякий человек, настолько должен, что считал себя вправе требовать
от него правильного поступка, а не готовить его к правильному поступку.
Вот в этой формуле, если хотите, может быть, и заключается ересь. Но какая же?
Я считаю, что каждый советский педагог, каждый советский человек от каждого
советского нормального гражданина и ребенка должен требовать нормального поступка, а
ненормальными мы считаем только тех, которые физически или психически ущемлены.
В своей практике я такое вполне развернутое, без всяких скидок, требование и
предъявил к моим воспитанникам и считаю, что это должно быть законом правильной
советской педагогики: непреклонное, ясное, прямое, категорическое требование.
Мне кажется при этом, что в этом требовании иногда (а может быть, и всегда)
мерещится риск
4
, и поэтому страшновато предъявить такое категорическое требование: а
вдруг личность «побежит вешаться»? И вот именно на фоне этого страха у нас и
развернулись педология и педологические тенденции.
В чем они заключаются? В том, чтобы никакого рискованного требования не
предъявлять, а приспособить такую серию средств, чтобы сам черт не разобрал, к чему эти
средства ведут, и чтобы потом нельзя было установить, а кто же в случившемся виноват.
Воспитывал человека, учил-учил, а вышло не то. Можно предъявить требование к
профессору педагогики, создавшему такую систему? Нельзя. А к учителю? Тоже нельзя,
потому что нет никакого действия, а есть только рассуждения о действиях и аргументация.
Так вот, раз мы откажемся от логики, вытекающей из каких-то наших гражданских
требований, мы тем самым откажемся и от воспитательной работы.
Моим основным принципом (а я считал, что это принцип не только мой, но и всех
советских педагогов) всегда было: как можно больше требования к человеку, но вместе с тем
и как можно больше уважения я к нему. В нашей диалектике это, собственно говоря, одно и
то же: нельзя требовать большего от человека, которого мы не уважаем. Когда мы от
человека много требуем, то в этом самом и заключается наше уважение, именно потому, что
мы требуем, именно потому, что это требование выполняется, мы и уважаем человека.
Если это положение провести по всем линиям воспитательной работы, то мы увидим,
как воспитательная работа начнет принимать строгие и четкие организационные формы. Еще
раз повторяю — всегда при этом будет присутствовать некоторый страх риска.
Вы обратили, вероятно, внимание на то, что недавно в «Правде» появилось несколько
статей о производственном риске
5
. Нужно сказать, что у педагогов эта проблема выглядит,
конечно, страшнее.
Можно рисковать материальными ценностями, можно рисковать продукцией, хотя
преступно рисковать и там, где дело касается материальных ценностей (разве можно
рисковать, когда мы делаем самолеты или танки?). Но мы признаем риск, если в нем
заложено стремление к правильной, советской цели.
Возможен ли такой риск в педагогическом процессе?
Если мы спросим об этом человека, сидящего в кабинете за книжками, то он
скажет: «Рисковать человеком в педагогической работе нельзя». А если вы спросите
меня, человека, работающего практически, у которого несколько десятков этих
живых людей, то я скажу: «Обязательно, потому что отказаться от риска – значит
отказаться от творчества». А мы имеем право отказаться от творчества в нашей
воспитательной работе? Нет. Поэтому я утверждаю, что в педагогической работе