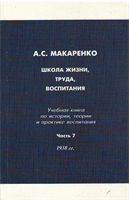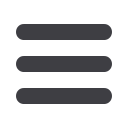

274
когда все будут воспитаны, то будет хороший коллектив. А потом я пришел к выводу,
что нужно иногда не говорить с отдельным учеником, а сказать всем, построить такие
формы, чтобы каждый был вынужден находиться в общем движении. Вот при этом мы
воспитываем коллектив, сбиваем его, придаем ему крепость, после чего он сам становится
большой воспитательной силой. В этом я глубоко убежден.
И меня убедила в этом не колония им. Горького ...a коммуна им. Дзержинского. В
коммуне я добился того, что коллектив сам стал замечательной творящей, строгой, точной и
знающей силой. Этого нельзя сделать приказом, такой коллектив нельзя создать и за два, и за
три года, такой коллектив создается за несколько лет. Это дорогая, исключительно дорогая
вещь. Но когда такой коллектив создан, тогда нужно его беречь, и тогда весь
воспитательный процесс проходит очень легко.
Но тут встает вопрос, наш педагогический вопрос: а как же беречь коллектив?
Представьте себе, что вы, группа учителей, воспитали коллектив, создали традиции, создали
законы, которым все верят, добились того, что каждый в каждую минуту своей жизни
физически чувствует, что за ним стоит коллектив. И вот перед вами задача — как это не
потерять. Коллектив — чрезвычайно нежная, чрезвычайно сильная вещь. А развалить его,
испортить, перемешать части может первый попавшийся самодур. Как спасти коллектив от
самодура? А ведь он может выскочить из-за любого угла, предъявить вам мандат и сказать:
«Делайте так, делайте так, делайте так». И вот тут-то необходимы наши общие формы, наши
общие советские традиции, и у нас они нарастают. Сейчас это еще во многих случаях
принимает форму болезненного явления, но я убежден, что через самый короткий
промежуток времени у нас будут такие традиции воспитательной работы, которые, не скоро
поломаешь. Их немного, но у нас они уже есть, и они делают свое дело.
Вот то, что я хотел сказать о коллективе. Отсюда вытекает и вопрос о дисциплине,
самый больной вопрос нашего педагогического сегодня.
Как раз по вопросу о дисциплине я переболел больше вас всех и раньше вас начал
болеть. Я начал с преступления. Если вы читали «Педагогическую поэму» — вы знаете. Это
был удар, это было избиение воспитанника. Это было очень тяжелое переживание, тяжелое
во всех отношениях. Я уже не говорю о том, что это было уголовное преступление против
нашего советского уголовного закона и что я имел все шансы на то, что меня могут на три
года посадить. Не это меня мучило, а другое — я испугался самой мысли, что, может быть,
это — педагогический закон: не ударишь - не поедешь. Причем я находился в таком
положении, когда я не мог мучиться, заперевшись в комнате, я должен был работать. Таким
образом, для меня стояла ясная проблема — быть дальше или, испугавшись, отступить? Что
делать?
Вот такой вид приняла для меня проблема дисциплины - вид отчаяния, позора и
преступления. И я, дав слово Алексею Максимовичу писать только правду, написал: без
всяких утаек, как было дело; я написал: да, ударил и все-таки махнул рукой и сказал —
пойдем дальше! И я только через три или четыре года понял, что и мой удар, и моя
растерянность, и все мои мучения проистекали оттого, что у меня в руках ничего не было: ни
знания, ни навыков, ни привычек, ни мастерства.
Вот рядом с коллективом и нужно поставить мастерство. Даю вам честное
слово, я себя не считал и не считаю сколько-нибудь талантливым педагогом. Говорю
вам это попросту. Но я много работал, считал себя и считаю работоспособным, я
добивался освоения этого мастерства, сначала даже не верил, да есть ли такое
мастерство, или нужно говорить о так называемом педагогическом таланте. Но разве
мы можем положиться на случайное распределение талантов? Сколько у нас таких
особенно талантливых воспитателей? И почему должен страдать ребенок, который
попал неталантливому педагогу? И можем ли мы строить воспитание всего нашего
советского детства и юношества в расчете на талант? Нет. Нужно говорить только о