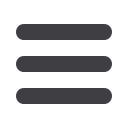

265
смешивали с ячменем; эти стоги сложены Карабановым, Чоботом, Федоренко, и нужно при-
знать – как ни парились хлопцы, как не задавались, а перещеголять Силантия не смогли.
У нанятого в соседнем селе локомобиля ожидают прихода четвертого сводного изма-
занные серьезные машинисты. Молотилка же наша собственная, только весной купленная в
рассрочку, новенькая, как вся наша жизнь.
Бурун быстро расставляет свои бригады, у него с вечера все рассчитано, недаром он
старый комсвод-четыре. Над стогом овса, назначенного к обмолоту последним, развевается
наше знамя.
К обеду уже заканчивают пшеницу. На верхней площадке молотилки самое людное и
веселое место. Здесь блестят глазами девчата, покрытые золотисто-серой пшеничной пылью,
из ребят только Лапоть. Он неутомимо не разгибает ни спины, ни языка. На главном, ответ-
ственном пункте лысина Силантия и пропитанный той же пылью его незадавшийся ус.
Лапоть сейчас специализируется на Оксане.
– Это вам колонисты назло сказали, что пшеница. Разве это пшеница? Это горох.
Оксана принимает еще не развязанный сноп пшеницы и надевает его на голову Лаптя,
но это не уменьшает общего удовольствия от Лаптевых слов.
Я люблю молотьбу. Особенно хороша молотьба к вечеру. В монотонном стуке машин
уже начинает слышаться музыка, ухо уже вошло во вкус своеобразной музыкальной фразы,
бесконечно разнообразной с каждой минутой и все-таки похожей на предыдущую. И музыка
эта – такой счастливый фон для сложного, уже усталого, но настойчиво неугомонного дви-
жения: целыми рядами, как по сказочному заклинанию, подымаются с обезглавленного стога
снопы, и после короткого нежного прикосновения на смертном пути к рукам колонистов
вдруг обрушиваются в нутро жадной, ненасытной машины, оставляя за собой вихрь разру-
шенных частиц, стоны взлетающих, оторванных от живого тела крупинок. И в вихрях, и в
шумах, и в сутолоке смертей многих и многих снопов, шатаясь от усталости и возбуждения,
смеясь над их усталостью, наклоняются, подбегают, сгибаются под тяжелыми ношами, хохо-
чут и шалят колонисты, обсыпанные хлебным прахом и уже осененные прохладой тихого
летнего вечера. Они прибавляют в общей симфонии к однообразным темам машинных сту-
ков, к раздирающим диссонансам верхней площадки победоносную, до самой глубины ма-
жорную музыку радостной человеческой усталости. Трудно уже различить детали, трудно
оторваться от захватывающей стихии. Еле-еле узнаешь колонистов в похожих на фотографи-
ческий негатив золотисто-серых фигурах. Рыжие, черные, русые – они теперь все похожи
друг на друга. Трудно согласиться, что стоящая с утра с блокнотом в руках под самыми гу-
стыми вихрями призрачно склоненная фигура – это Мария Кондратьевна; трудно признать в
ее компаньоне, нескладной, смешной, сморщенной тени, Эдуарда Николаевича, и только по
голосу я догадываюсь, когда он говорит, как всегда, вежливо-сдержанно:
– Товарищ Бокова, сколько у нас сейчас ячменя?
Мария Кондратьевна поворачивает блокнот к закату.
– Четыреста пудов уже, – говорит она таким срывающимся, усталым дискантом, что
мне по-настоящему становится ее жалко.
Хорошо Лаптю, который в крайней усталости находит выходы.
– Галатенко! – кричит он на весь ток. – Галатенко!
Галатенко несет на голове на рижнатом копье
7
двухпудовый набор соломы и из-под
него откликается, шатаясь:
– А чего тебе приспичило?
– Иди сюда на минуточку, нужно...
Галатенко относится к Лаптю с религиозной преданностью. Он любит его и за остро-
умие, и за бодрость, и за любовь, потому что один Лапоть ценит Галатенко и уверяет всех,
что Галатенко никогда не был лентяем.
Галатенко сваливает солому к локомобилю и спешит к молотилке. Опира-
















