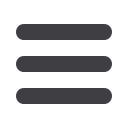

269
ловек, ну и вычеркни его из списков. Надо думать про завтрашний день. А я вам скажу: тикай-
те отсюда с колонией, а то у вас все перевешаются.
На обратном пути я задумался над путями нашей колонии. В полный рост встал перед мои-
ми глазами какой-то грозный кризис, и угрожали полететь куда-то и пропасть несомненные для
меня ценности, ценности живые, живущие, созданные, как чудо, пятилетней работой коллектива,
исключительные достоинства которого я даже из скромности скрывать от себя не хотел.
В таком коллективе неясность личных путей не могла определять кризиса. Ведь личные пу-
ти всегда неясны. И что такое ясный личный путь? Это отрешение от коллектива, это концентри-
рованное мещанство: такая ранняя, такая скучная забота о будущем куске хлеба, об этой самой
хваленой квалификации. И какой квалификации? Столяра, сапожника, мельника. Нет, я крепко
верю, что для мальчика в шестнадцать лет нашей советской жизни самой дорогой квалификаци-
ей является квалификация борца и человека
8
.
Я представил себе силу коллектива колонистов и вдруг понял, в чем дело: ну конечно, как я
мог так долго думать! Все дело в остановке. Не может быть допущена остановка в жизни коллек-
тива.
Я обрадовался по-детски: какая прелесть! Какая чудесная, захватывающая диалектика! Сво-
бодный рабочий коллектив не способен стоять на месте. Всемирный закон всеобщего развития
только теперь начинает показывать свои настоящие силы. Форма бытия свободного человеческо-
го коллектива – движение вперед, форма смерти – остановка
9
.
Да, мы почти два года стоим на месте: те же поля, те же цветники, та же столярная и тот
же ежегодный круг.
Я поспешил в колонию, чтобы взглянуть в глаза колонистам и проверить мое великое
открытие.
У крыльца белого дома стояли два извозчичьих экипажа, и Лапоть меня встретил сооб-
щением:
– Приехала комиссия из Харькова.
«Вот и хорошо, – подумал я, – сейчас мы это дело решим».
В кабинете ожидали меня: Любовь Савельевна Джуринская, полная дама, в темно-
малиновом, не первой чистоты платье, уже немолодая, но с живыми и пристальными глазами, и
невзрачный человек, полурыжий, полурусый, не то с бородкой, не то без бородки; очки на нем
очень перекосились, и он все поправлял их свободной от портфеля рукой.
Любовь Савельевна заставила себя приветливо улыбнуться, когда знакомила меня с осталь-
ными:
– А вот и товарищ Макаренко. Знакомьтесь: Варвара Викторовна Брегель, Сергей Василье-
вич Чайкин.
Почему не принять в колонии Варвару Викторовну Брегель – мое высшее начальство, но с
какой стати этот самый Чайкин? О нем я слышал – профессор педагогики. Не заведовал ли он
каким-нибудь детским домом?
Брегель сказала:
– Мы к вам специально – проверить ваш метод.
– Решительно протестую, – сказал я. – Нет никакого моего метода.
– А какой же у вас метод?
– Обыкновенный, советский
10
.
Брегель зло улыбнулась.
– Может быть, и советский, но во всяком случае не обыкновенный. Надо все-таки прове-
рить.
Начиналась самая неприятная беседа, когда люди играют терминами в полной уверенности,
что термины определяют реальность. Я поэтому сказал:
– В такой форме я беседовать не буду. Если угодно, я вам сделаю доклад, но предупреждаю,
что он займет не меньше трех часов.
Брегель согласилась. Мы немедленно уселись в кабинете, заперлись, и я
занялся мучительным делом: переводом на слова накопившихся у меня за пять лет впечатле-
ний, соображений, сомнений и проб. Мне казалось, что я говорил
















