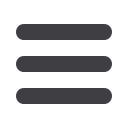

280
пальцем, спросил сквозь слезы:
– И даже коллектив, состоящий из Клямеров?
– Неизбежно, – ответил я серьезно.
С бритого как ветром сдуло его осторожную официальность. Он протянул руку к Любо-
ви Савельевне:
– Не говорил ли я вам: «числом поболее, ценою подешевле»?
Он вдруг устало покачал головой и, снова возвращаясь к официальному деловому тону,
сказал Джуринской:
– Пусть переезжает! И скорее!
– Двадцать тысяч, – сказал я, вставая.
– Получите. Не много?
– Мало.
– Хорошо. До свиданья. Переезжайте и смотрите: должен быть полный успех.
В колонии имени Горького в это время первое горячее решение постепенно переходило
в формы спокойно-точной военной подготовки. Колонией фактически правил Лапоть, да Ко-
валь помогал ему в трудных случаях, но править было нетрудно. Никогда не было в колонии
такого дружного тона, такой глубоко ощущаемой обязанности друг перед другом. Даже мел-
кие проступки встречались великим изумлением и коротким выразительным протестом:
– А ты еще собираешься ехать в Куряж!
Уже ни для кого в колонии не оставалось никаких сомнений в сущности задачи. Колонисты
даже не знали, а ощущали особенным тончайшим осязанием висевшую в воздухе необходи-
мость все уступить коллективу, и это вовсе не было жертвой. Было наслаждением, может быть,
самым сладким наслаждением в мире, чувствовать эту взаимную связанность, крепость и эла-
стичность отношений, вибрирующую в насыщенном силой покое великую мощь коллектива. И
это все читалось в глазах, в движении, в мимике, в походке, в работе. Глаза всех смотрели туда,
на север, где в саженных стенах сидела и урчала в нашу сторону темная орда, объединенная ни-
щетой, своеволием и самодурством, глупостью и упрямством.
Я отметил, что никакого бахвальства у колонистов не было. Где-то тайно каждый носил
страх и неуверенность, тем более естественные, что никто противника в глаза еще не видел.
Каждого моего возвращения ожидали нетерпеливо и жадно, дежурили на дорогах и де-
ревьях, выглядывали с крыш. Как только мой экипаж въезжал во двор, сигналист хватал тру-
бу и играл общий сбор, не спрашивая моего согласия. Я покорно шел на собрание. В это
время сделалось обыкновением встречать меня, как народного артиста, аплодисментами.
Это, конечно, относилось не столько ко мне, сколько к нашей общей задаче.
Наконец, в первых числах мая, на такое собрание пришел я с готовым договором.
По договору и по приказу Наркомпроса колония имени Максима Горького переводилась
в полном составе воспитанников и персонала, со всем движимым имуществом и инвентарем,
живым и мертвым, в Куряж. Куряжская колония объявлялась ликвидированной, с передачей
двухсот восьмидесяти воспитанников и всего имущества в распоряжение и управление коло-
нии имени Горького. Весь персонал Куряжской колонии объявляется уволенным с момента
вступления в заведование завколонией Горького, за исключением некоторых технических
работников.
Принять колонию мне предлагалось пятого мая. Закончить перевод колонии Горького –
к пятнадцатому мая.
Выслушав договор и приказ, горьковцы не кричали «ура» и никого не качали. Только
Лапоть сказал в общем молчании:
– Напишем об этом Горькому. И самое главное, хлопцы: не пищать!
– Есть не пищать! – пропищал какой-то пацан.
А Калина Иванович махнул рукой и прибавил:
– Рушайте, хлопцы, не бойтесь!
















