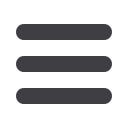

176
бородой лицо Степана, узнала чемоданы сына, но никак не могла сообразить, в чем заключается
сущность происходящего.
– Я – Василиса Петровна. А вы меня, откуда знаете?
– Да как же не знать, коли ты мать его благородия нашего? A где сам будет?
– Кто? Алексей?
– Да он же – Алексей! Барин мой! Очухался? Я его тогда погрузил в санитарный, без
всякого смысла был. Где он?
Но уже из второй комнаты вышел Алеша, швырнул на пол костыли и повалился на Степана
с радостным криком:
– Степапан! Степапан!
Потом отстранился и, держась на одной ноге, воодушевленно рассматривал запыленную
фигуру Степана в истасканной, промасленной шинельке:
– Мама! Друг! Такой, понимаешь, Степапан! Какой ты хороший!
Степан стоял посреди кухни и ухмылялся:
– А болтаешь ты как–то плоховато, ваше благородие. Хорошо, что очухался. А я уж думал,
каюк тебе, Алексей Семенович!
– Степан! А как это... как? Я тогда... ччерт его знает. Ззабыл... шли, шли...
Степан расстегнул шинель, поставил чемоданы к стене, повернулся к матери:
– Василиса Петровна! Ему все рассказать нужно. Да и ты послушаешь про сына. А только
дай пожрать, два дня не ел.
– А как же это вы... без денег, что ли, в дороге–то?
– Какие там деньги? Я пристал к батальонному, вещи–то нужно отправить. А он...
– А кто, кто?
– А черт его знает, все новые. Тогда это... в той самой атаке слезы одни остались. Я так и
уехал, убрать не успели, вонь какая, Алексей Семенович, ни проходу, ни продыху. Наш полк,
можно сказать, лежит на поле, как будто навоз, лежит и смердит.
Алеша побледнел и спросил:
– А кто... уббитытытый?
– Да черт там разберет, все убитые. И полковой, и офицеры все, и наш брат. Один смердеж
остался. Валяются там в грязи. Черт –те что. Лопатами убирать нужно героев. Да лучше не
рассказывать, а то вон мамаша пужаются. От всего полка два офицера: ты остался да прапорщик
Войтенко прилез на другой день. Что ты хочешь – ураганный огонь. Ну, дай, мамаша, поесть.
Побледневшая, действительно испуганная, мать захлопотала вокруг стола:
– Вы, Степан, как вас по отчеству?
– Да брось, Василиса Петровна, какое там отчество. Спасибо, хоть Степан остался. Да и не
выкай ты мне, я тебе не полковой командир, а денщик. Я и сам на «вы» не умею.
После завтрака, умытый и порозовевший, Степан уселся на диване в чистой комнате и
рассказал Алеше и Василисе Петровне:
– Пошли вы тогда ночью. Помнишь, может, наши три дня громили. Ты понимаешь,
мамаша, какое дело. Это наши генералы придумали, чтоб им... Особая армия генерала Гурко.
Особая, ты пойми. Прорыв хотели сделать, да только и того, что кишки пообрывали и легли. Три
дня сто двадцать батарей... наших. Мы думали, от немцев пыль одна останется.
А ночью мы и пошли. Ах, старушка ты моя милая, до чего людей приспособили, ты не
можешь сообразить. Ты понимаешь, ночная атака на фронте в десять верст, в шестнадцать цепей.
А наш полк в первой цепи. Помнишь, ваше благородие, прожекторы? Прожекторы помнишь?
Алексей вспоминал и горящими глазами смотрел на Степана.
– Помнишь, значит? Как это они стали над нами, прожекторы, – страшный суд,
справедливый страшный суд. Я, может, помнишь, все с деньгами к тебе приставал: дай деньги, дай
деньги. А ты только головой махнул, да и прыгнул за
















