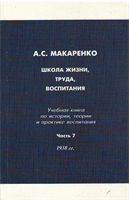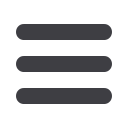

150
высовываются весьма сомнительные рожки настоящего презрения к народу, которому
критик отказывает даже в бодрости.
Но, как бы я ни изобразил дни мобилизации, все же в моем изображении нет ни одной
черточки шовинизма. Наоборот, есть строчка, утверждающая нечто противоположное.
«А потом солдаты запели песню горластую и вовсе не воинственную».
Эту строчку критик предусмотрительно выбросил из цитаты. Он вообще чрезвычайно
вольно обращается с моим романом: подбирает слова «радостный», «весело»,
«ухмыльнулись», не замечает слов противоположного оттенка — «испуганно», «грустные»,
пропускает строчки, которые противоречат его утверждениям, не читает текстов соседних,
не замечает общего тона рассказа. В моем романе проводы полков заканчиваются такими
словами:
«А потом полки запаковали в вагоны, сделали это аккуратно, по-хозяйски, так же
аккуратно проиграли марш, свистнули, и вот уже на станции нет ничего особенного, стоят
пустые составы, ползают старые маневровые паровозы, из окна аппаратной выглядывает
усатый дежурный и приглядывается к проходящим девицам... По кирпичным тротуарам
потекли домой говорливые потоки людей, среди них потерялись покрасневшие глаза жен и
сестер и склоненные головы матерей. Матери спешили домой, спешили мелкими шажками
слабых ног и смотрели на щербины и ямки тротуаров, чтобы не упасть».
Дорогие читатели, критики, люди понимающие! Скажите, разве в этих словах не
снимается улыбка мужчин, разве теперь не видно, что прикрывала эта улыбка, разве не
понятно, что все это событие было не шовинизмом, а горем.
В художественном произведении я имею право на определенный прием, сообщающий
моим глазам те или другие тоны и окраски. И конечно, я беззащитный стою перед
самоуправством критика, который игнорирует прием, разрушает его, выхватывает отдельные
его элементы и размахивает ими перед глазами читателя, а другие элементы прячет в тайной
надежде, что никто этого не заметит. По отношению к только что приведенному отрывку это
сделано особенно грубо — бесцеремонно грубо. Начало и конец цитаты сведены критиком в
один отрывок. В романе между началом и концом цитаты помещается небольшая сценка, в
которой изображается беседа молодежи о переходе войны (империалистической) в войну
гражданскую. Именно эту беседу критик игнорирует. Почему? Все-таки интересно: почему?
Еще оригинальнее такой... анализ, что ли: в романе есть две строчки, буквально две:
« - Здорово бабы кричали?
- Нет, тихонько...
- Поехали воевать, значит...»
А посмотрите, какой отклик критика:
«Даже матери и жены, провожавшие своих сыновей и мужей, понимали, насколько
неудобно им нарушать общее веселье, и старались плакать тихонько. Об этом рассказывает
отцу Алеша, а он врать не будет, он юноша честный, такая у него в повести должность».
Не правда ли, сколько в этих словах остроумия, милой развязности и еще чего-то...
похожего на вульгарность! В романе есть много мест, посвященных матерям и их слезам,
критик десятой дорогой обходит эти места, но зато с какой экспрессией и с какой, можно
сказать, критической квалификацией набрасывается на этот тихий плач. А почему? Потому,
что по шаблону, принятому в некоторых литературных канонах, полагается матерям плакать
громко. Что я могу поделать? Собственно говоря, вопрос стоит о культуре критики.