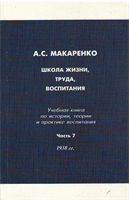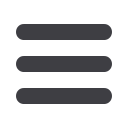

153
«Ввиду несомненного наличия оборонческого настроения в широких массах,
признающих войну
только по необходимости
, а не ради завоеваний, надо особенно
обстоятельно, настойчиво, терпеливо разъяснять им, что кончить войну не насильническим
миром нельзя без свержения капитала. Эту мысль необходимо развивать широко, в самых
широких размерах» (Соч., т. 31, с. 105).
И тогда же Ленин сказал:
«Когда рабочий говорит, что хочет обороны страны, — в нем говорит инстинкт
угнетенного человека» (там же).
Можно привести очень много примеров такого тонкого, такого точного, такого
динамического отношения Ленина к данному вопросу.
Пристраиваясь к цитатам из Ленина, мой критик не понимает ни этих цитат, ни их
диалектического движения. У критика ярко выраженный цитатный идеализм: рабочие
должны быть пораженцами потому, что на такой-то и на такой-то странице сказано о
пораженчестве. Рабочие должны страдать, стенать, стонать, плакать, в этом критик и видит
признаки типического поведения. Уезжая на войну, они должны разрываться от горя,
должны... трудно даже сказать, сколько уже раз на этом «должны» срывалась наша
художественная литература. Разве не надоел всем такой штамп: солдаты уезжают на фронт,
жены кричат, поп говорит паскудно-елейные речи, офицеры кроют матом и вообще
угнетают, а большевики под шумок говорят речи, составленные тоже из цитат. При этом все
глубоко понимают, в чем дело, все отрицают войну, все преисполнены не только
революционного настроения, но и революционного понимания, и только одного нет у этих
людей: жизни, ощущения своей личности, бодрости, мужества, силы.
Стоит ли повторять такой штамп, стоит ли критику так горячо беспокоиться о его
сохранении? Мой рабочий Теплов говорит: «Жизнь всегда хороша, плохая жизнь у вора и у
нищего». Критик пришел в негодование: как смеет рабочий так говорить, как он смеет
любить жизнь, как он смеет прекратить стон, если стон полагается по шаблону! В том, что
рабочий любил жизнь, ценил ее, в том, что он презирал попрошайничество, — во всем этом
заключались действительные силы жизни и культуры, те самые силы, которые только и
могли привести рабочий класс России к победе. Разве не это принципиальное признание
жизни имеет в виду Ленин, когда говорит:
«Мы полны чувства национальной гордости, и именно поэтому мы особенно
ненавидим свое рабское прошлое... и свое рабское настоящее...» (т. 26, с. 108).
Рабочие люди старой России тоже любили жизнь и способны были переживать
гордость, именно поэтому они стремились к свободе. Люди, не обладающие чувством
достоинства, не способны и на борьбу.
Перед тем как писать свою книгу, я перечитал Ленина и еще раз был поражен его
знанию русской жизни, несмотря на то, что Ленин был оторван от России в течение многих
лет. Формулировки Ленина в моем представлении совершенно не расходились с тем знанием
рабочей жизни, которое я вынес из своего детства и молодости. Руководствуясь своим
жизненным опытом и проверяя себя словами Ленина, я посчитал себя вправе отказаться от
шаблона, который был мне давно известен и который никогда не вызывал моего уважения. Я
прекрасно понимал, что вызову протесты со стороны критиков, для которых отступление от
шаблона просто невыносимо.
Я взял участок рабочей жизни, наиболее мне известный, — провинциальный,
запущенный уездный городок, в котором хотя и есть реальное училище, но нет
промышленности, за исключением слабых кустарного типа заводиков. В такие места
большевистская литература совершенно не доходила, но большевистские идеи
просачивались через сотые руки и создавали не столько изменения в мыслях, сколько
изменения в чувствах.