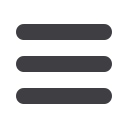

321
юмором: «Авось, небось и как-нибудь». И осталось для оптимизма прилично нищенское место, над
которым можно было и посмеяться с европейским высокомерием, и поплакать с русской тоской.
В порядке не то высокомерия, не то тоски поставили на этом самом месте беломраморный
дворянский памятник и написали на нем вдохновенные слова поэта:
Не поймет и не заметит
Гордый взор иноплеменный,
Что сквозит и тайно светит
В наготе твоей смиренной.
Удрученный ношей крестной,
Всю тебя, земля родная,
В рабском виде царь небесный
Исходил, благословляя.
2
Это и все, что осталось от великолепного русского оптимизма к началу двадцатого века:
наивность и умиление. Ибо только безгранично наивный человек не мог понять, что светит в смирен-
ной наготе. Люди более практические ухмылялись в бороды: русский человек ограблен был весьма
успешно, а по оптимизму своему даже и не обижался.
И только в 1917 г. неожиданно обнаружилось, что народный оптимизм есть нечто гораздо бо-
лее сильное и гораздо менее безобидное. Без всякого расчета на «авось» и «как-нибудь», чрезвычайно
основательно, с настоящей деловитостью, русский народ выгнал старомодных эстетов «за Черное
море», и очистилось место для новой эстетики и для нового оптимизма.
Вероятно, в Западной Европе и до сих пор еще не могут понять, откуда у нас взялись простота
и уверенность действия? Советский человек показал себя не только в пафосе загоревшихся глаз, не
только в усилии волевого взрыва, но и в терпеливых ежедневных напряжениях, в той черной, невид-
ной работе, когда будущее начинает просвечивать в самых неуловимых и тонких явлениях, настолько
нежных, что заметить их может только тот, кто стоит у их источника, кто не отходит от них ни по-
мышлением, ни физически. После многих дней и ночей, после самых бедственных разочарований и
срывов, отчаяния и слабости наступает праздник: видны уже не мелочи и детали, а целые постройки,
пролеты великолепного здания, до сих пор жившие только в оптимистической мечте. На таком
празднике самое радостное заключается в логическом торжестве: оказывается, что иначе и быть не
могло, что все предвидения рассчитаны были точно, основаны на знании, на ощущении действитель-
ных ценностей. И был вовсе не оптимизм, а реалистическая уверенность, а оптимизмом она называ-
лась из застенчивости.
И Захаров прошел такой тяжелый путь – путь оптимиста. Новое рождалось в густом экстракте
старого: старых бедствий, голода, зависти, озлобления – толкотни и тесноты человеческой и еще бо-
лее опасных вещей: старой воли, старых привычек и старых образцов счастья. Старого обнаружилось
очень много, и оно не хотело умирать мирно, оно топорщилось, становилось на пути, наряжалось в
новые одежды и новые слова, лезло под руки и под ноги, говорило речи и сочиняло законы воспита-
ния.
Старое умело даже писать статьи, в которых становилось на защиту советской педагогики.
Было время, когда это старое в самых новых выражениях куражилось и издевалось над рабо-
той Захарова и тут же требовало от него чудес и подвижничества. Старое ставило перед ним сказочно
глупые загадки, формулируя их в научно-нежных словах, а когда он совсем не по-сказочному изне-
могал, старое показывало на него пальцами и кричало:
- Он потерпел неудачу!
















