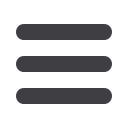
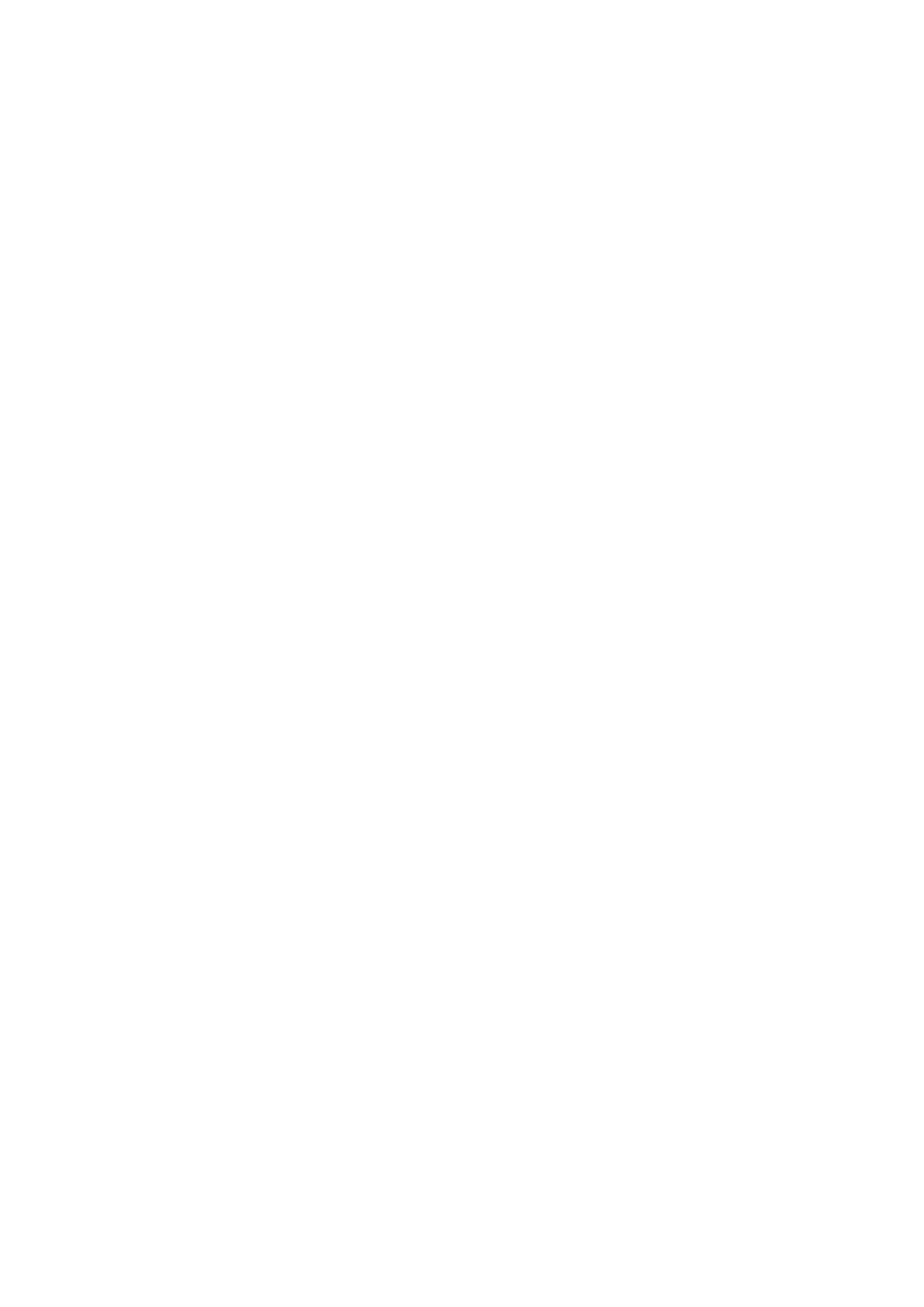
186
вал за собой никакой вины. Стремление к бродяжничеству он и сам старался побороть и ме-
ня просил:
– Вы со мною построже, пожалуйста, Антон Семенович, а то я обязательно босяком
буду.
В колонии он никогда ничего не крал, любил отстаивать правду, но совершенно не
способен был понять логику дисциплины, которую он принимал лишь постольку, поскольку
был согласен с тем или иным положением в каждом отдельном случае. Никакой обязанности
в порядках колонии он не признавал и не скрывал этого. Меня он немного боялся, но и мои
выговоры никогда не выслушивал до конца, прерывал меня страстной речью, непременно
обвиняя своих многочисленных противников в различных неправильных действиях, в подли-
зывании ко мне, в наговорах, в бесхозяйственности, грозил кнутом отсутствующим врагам,
хлопал дверью и, негодующий, уходил из моего кабинета. С воспитателями он был невыно-
симо груб, но в его грубости всегда было что-то симпатичное, так что наши воспитатели и не
оскорблялись. В его тоне не было ничего хулиганского, даже просто неприязненного,
настолько в нем всегда преобладала человечески страстная нотка, – он никогда не ссорился
из-за эгоистических побуждений.
Поведение Антона в колонии скоро стало определяться его влюбленностью в лоша-
дей и в дело конюха. Трудно было понять происхождение этой страсти. По своему развитию
Антон стоял гораздо выше многих колонистов, говорил правильным городским языком,
только для фасона вставлял украинизмы. Он старался быть подтянутым в одежде, много чи-
тал и любил поговорить о книжке. И все это не мешало ему день и ночь толочься в конюшне,
вычищать навоз, вечно запрягать и распрягать, чистить шлею или уздечку, плести кнут, ез-
дить в любую погоду в город или во вторую колонию – и всегда жить впроголодь, потому
что он никогда не поспевал ни на обед, ни на ужин, и, если ему забывали оставить его пор-
цию, он даже и не вспоминал о ней.
Свою деятельность конюха он всегда перемежал с непрекращающимися ссорами с Ка-
линой Ивановичем, кузнецами, кладовщиками и обязательно с каждым претендентом на по-
ездку. Приказ запрягать и куда-нибудь ехать он исполнял только после длинной перебранки,
наполненной обвинениями в безжалостном отношении к лошадям, воспоминаниями о том, ко-
гда Рыжему или Малышу натерли шею, требованиями фуража и подковного железа. Иногда из
колонии нельзя было выехать просто потому, что не находилось ни Антона, ни лошадей и ни-
каких следов их пребывания. После долгих поисков, в которых участвовало полколонии, они
оказывались или в Трепке, или на соседнем лугу.
Антона всегда окружал штаб из двух-трех хлопцев, которые были влюблены в Антона
в такой же мере, в какой он был влюблен в лошадей. Братченко содержал их в очень строгой
дисциплине, и поэтому в конюшне всегда царил образцовый порядок: всегда было убрано,
упряжь развешана в порядке, возы стояли правильными шеренгами, над головами лошадей
висели дохлые сороки, лошади вычищены, гривы заплетены и хвосты подвязаны.
В июне, поздно вечером, прибежали ко мне из спальни:
– Козырь заболел, совсем умирает...
– Как это – «умирает»?
– Умирает: горячий и не дышит.
Екатерина Григорьевна подтвердила, что у Козыря сердечный припадок, необходимо
сейчас же найти врача. Я послал за Антоном. Он пришел, заранее настроенный против любо-
го моего распоряжения.
– Антон, немедленно запрягай, нужно скорее в город...
Антон не дал мне кончить.
– И никуда я не поеду, и лошадей никуда не дам!.. Целый день гоняли лошадей, – по-
смотрите, еще и доси не остыли... Не поеду!
– За доктором, ты понимаешь?
– Наплевать мне на ваших больных! Рыжий тоже болен, так к нему докторов не возят.
















