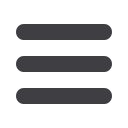

120
вредной мальчишеской улыбкой. Почему бы им и не улыбаться? Неужели нельзя пошутить с
городской публикой, устроить ей маленькую каверзу? Публика своя, хорошая, не ездят по
нашим улицам бояре и дворяне, не водят барынь под ручку раскрашенные офицеры, не
смотрят на нас с осуждением лабазники. И мы идем, как хозяева, по нашему городу, идем не
«приютские мальчики» – колонисты-горьковцы. Недаром впереди плывет наше красное зна-
мя, недаром медные трубы наши играют «Марш Буденного».
Мы поворачиваем на площадь Тевелева, чуть-чуть подымаемся в горку и уже видим вер-
хушку знамени дзержинцев. А вот и длинный ряд белых воротников, и внимательные родные
лица, команда Киргизова, вздернутые руки и музыка. Дзержинцы встречают нас знаменным
салютом. Еще секунда – наш оркестр прервал марш и грохнул ответное приветствие.
Только одну секунду, пока Киргизов отдает рапорт, мы стоим в строгом молчании друг
против друга. И когда рушится строй и ребята бросаются к друзьям, жмут руки, смеются и
шутят, я думаю о докторе Фаусте: пусть этот хитрый немец позавидует мне. Ему здорово не
повезло, этому доктору, плохое он для себя выбрал столетие и неподходящую общественную
структуру.
Если мы встречались под выходной день, часто, бывало, ко мне подходил Митька Жеве-
лий и предлагал:
– Знаете что? Пойдем все к горьковцам. У них сегодня «Броненосец Потемкин». А ша-
мовки хватит...
И в эти дни поздним вечером мы будили Подворки маршами двух оркестров, долго шу-
мели в столовой, в спальнях, в клубе, старшие вспоминали штормы и штили прошлых лет,
молодые слушали и завидовали.
С апреля месяца главной темой наших дружеских бесед сделался приезд Горького. Алек-
сей Максимович написал нам, что в июле специально приедет в Харьков, чтобы пожить в
колонии три дня. Переписка наша с Алексеем Максимовичем давно уже была регулярной
86
.
Не видя его ни разу, колонисты ощущали его личность в своих рядах и радовались ей, как
радуются дети образу матери. Только тот, кто в детстве потерял семью, кто не унес с собой в
длинную жизнь никакого запаса тепла, тот хорошо знает, как иногда холодно становится на
свете, только тот поймет, как это дорого стоит – забота и ласка большого человека, человека
– богатого и щедрого сердцем.
Горьковцы не умели выражать чувства нежности, ибо они слишком высоко ценили
нежность. Я прожил с ними восемь лет, многие ко мне относились любовно, но ни разу за
эти годы никто из них не был со мною нежен в обычном смысле. Я умел узнавать их чувства
по признакам, мне одному известным: по глубине взгляда, по окраске смущения, по далеко-
му вниманию из-за угла, по чуть-чуть охрипшему голосу, по прыжкам и бегу после встречи.
И я поэтому видел, с какой невыносимой нежностью ребята говорили о Горьком, с какой
жадностью обрадовались его коротким словам о приезде.
Приезд Горького в колонию – это была высокая награда. В наших глазах, честное слово,
она не была вполне заслужена. И эту высокую награду нам присудили в то время, когда весь
Союз поднял знамена для встречи великого писателя, когда наша маленькая община могла
затеряться среди волн широкого общественного чувства.
Но она не затерялась, и это трогало нас и нашей жизни сообщало высокую ценность.
Подготовка к встрече Горького началась на другой день после получения письма. Впере-
ди себя Алексей Максимович послал щедрый подарок, благодаря которому мы могли зале-
чить последние раны, которые еще оставались от старого Куряжа.
Как раз в это время меня потребовали к отчету
87
. Я должен был сказать ученым мужам и
мудрецам педагогики, в чем состоит моя педагогическая вера и какие принципы исповедую.
Поводов для такого отчета было достаточно.
Я бодро подготовился к отчету, хотя и не ждал для себя ни пощады, ни снисхождения.
















