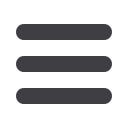

140
слова: «ко многому разумному и светлому тянулся сознательно». Может быть, это тяготение было
создано Клычковым или в некоторой мере удовлетворено?
Нет. В первой же беседе с Клычковым Чапаев говорит ему, не побуждаемый к тому
никаким «влиянием» только что прибывшего комиссара:
« – Скажу вам, товарищ Клычков, што почти неграмотный я вовсе. Только четыре года, как
я писать–то научился, а мне ведь тридцать пять годов! Всю жизнь, можно сказать, в темноте
ходил. Ну, да што уж – другой раз поговорим...»
Эту свою темноту Чапаев ощущал очень остро. И конечно, никакое воспитание не могло бы
начаться без ликвидации этой темноты. Клычков это понимает прекрасно:
«...Они перешли к самому больному для Чапаева вопросу: о его необразованности. И
договорились, что Федор будет с ним заниматься, насколько позволят время и обстоятельства...
Наивные люди: они хотели заниматься алгеброй в пороховом дыму! Не пришлось заняться,
конечно, ни одного дня, а мысль, разговоры об этом много раз приходили и после: бывало, едут на
позицию вдвоем, заговорят–заговорят и наткнутся на эту тему.
– А мы заниматься хотели, – скажет Федор.
– Мало ли што мы хотели, да не все наши хотенья выполнять –то можно... – скажет Чапаев
с горечью, с сожалением».
Эта горечь боевого комдива, в момент разгрома колчаковских полков думающего о своей
неграмотности, безнадежно мечтающего о знании, – это трагический мотив в книге. Он вызывает
у читателя чувство большой и печальной симпатии к Чапаеву, но не вызывает ничего похожего на
высокомерное пренебрежение к его темноте. Чапаев проходит перед читателем всего на
протяжении нескольких месяцев, проходит в огне грудной и остервенелой борьбы как один из
лучших вождей в этой борьбе, он идет от победы к победе, от победы к смерти. Нужно быть до
самой возмутительной степени филистером, чтобы увидеть в этом Чапаеве объект педагогической
работы и торжествовать: а все–таки Клычков его перевоспитал! Какой он раньше был темный, а
какой потом стал!
Мы видели, что сам Фурманов не сбивается на этот пошлейший тон педагогического
бахвальства, он не преувеличивает значения своих воспитательных успехов. Истинная сущность
отношений между Клычковым и Чапаевым прекрасно изображена в следующих строчках,
рисующих момент непосредственно после отозвания Федора Клычкова из дивизии:
«Напрасно Чапаев посылал слезные телеграммы, просил командующего, чтобы не забирали
от него Федора, – ничто не помогало, вопрос был предрешен заранее. Чапаев хорошо сознавал, что
за друга лишался он с уходом Клычкова, который так его понимал, так любил, так защищал
постоянно от чужих нападок, относился разумно и спокойно к вспышкам чапаевским и брани –
часто по адресу «верхов», «проклятых штабов», «чрезвычайки», прощал ему и брань по адресу
комиссаров, всякого «политического начальства», не кляузничал об этом в Ревсовет, не обижался
сам, а понимал, что эти вспышки вспышками и останутся».
Здесь нет ни одного слова о каком–то особенном, «учительском» влиянии Клычкова на
Чапаева. Их отношения были отношениями глубокой, деловой и человеческой дружбы двух
людей, горячо, до последней капли крови, преданных революции, идущих рядом во главе славной
дивизии на разгром Колчака. Значение Клычкова не столько «учительское», сколько деловое. Во
многих случаях Клычков выступает в качестве тормоза для неумеренно горячей натуры Чапаева,
но это выступление необходимо было не для воспитания Чапаева, а, прежде всего, для успеха
дела, а, кроме того, для сбережения в деле самого Чапаева, для защиты его от возможных
последствий его собственной горячности. Именно в этом и заключается истинно политическая,
комиссарская заслуга Клычкова.
С большой человеческой силой, с настоящим большевистским упорством он сумел понять,
оценить и полюбить Чапаева во всей его цельности и силе, помочь ему и охранить его, наилучшим
образом поддержать в трудной борьбе, стоять рядом с
















