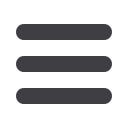

142
Едва ли можно признать удачным, справедливым и уместным этот явный социологизм.
Будто уж так невосприимчивы иваново–вознесенские ткачи к «камаринскому», будто уж так
предпочитают они собрания, в самом ли деле не способны они на восхищение?
Фурманов старается не признавать героизма. Изображая отдельные подвиги личности или
массы, он избегает слов пафоса и восхищения. Самые героические моменты борьбы он
старательно сопровождает бытовыми подробностями, прозаической улыбкой, трезвым
рассуждением, рисунком психологической изнанки поступка. Он не только решительно
отстраняет тему личного геройства, но и вообще тему подвига. По его мнению, движение масс
есть движение настолько законное и необходимое, что для личности остается только один исход:
раствориться в движении до предела, почти до исчезновения.
«Вот они лежат, истомленные походами бойцы. А завтра, чуть забрезжит свет, пойдут они в
бой и цепями и колоннами, колоннами и цепями, то залегая, то вскакивая вперебежку, то вновь и
вновь западая ничком в зверковые ямки, нарытые в спешке крошечным заступом или просто
отцарапанные мерзлыми пальцами рук... И многих не станет, навеки не станет: они, безмолвные и
недвижные, останутся лежать на пустынном поле... Каждый из них, оставшихся в поле на расклев
воронью, – такой маленький и одинокий, так незаметно пришедший на фронт и так бесследно
ушедший из боевых рядов, – каждый из них отдал все, что имел, и без остатка и молча, без
барабанного боя, никем не узнанный, никем не прославленный, – выпал он неприметно, словно
крошечный винтик из огнедышащего стального чудовища...»
Такое «винтикообразование» происходит у Фурманова исключительно вследствие
искусственно созданной им концепции, утверждающей реальность движения масс и не видящей за
этой реальностью живой личности, личного подвига, его значения и красоты. Очень возможно,
что в этой концепции сказывается влияние JI. Толстого. Во всяком случае, Фурманов старается
нигде не изменять этой концепции. Отказывая даже Чапаеву в звании героя, он не ищет этого
героя и в массе. Ни среди командиров, ни среди рядовых бойцов он никого не видит и не
показывает нам в героическом подвиге. У читателя не остается в памяти ни одного имени, которое
выделялось бы по своему боевому значению, по своей отваге. Правда, в одном месте он описывает
действительно выдающийся по смелости рейд командира бригады в место расположения
дивизионного штаба белых.
В этом отрицании личного подвига, личного героизма Фурманов не делает исключения и
для любимого им отряда иваново–вознесенских ткачей, который был одной из лучших частей в
чапаевской дивизии и который, может быть, поэтому обезличен автором в наиболее сильной сте-
пени – там не называется автором ни одного имени, есть только «винтики».
Вероятно, в создании такой «безличной» линии немалую роль сыграла и скромность самого
Фурманова, охотно показавшего в книге свой страх в первом бою, но замолчавшего свой орден
Красного Знамени. Эта скромность, эта убежденная слитность с общим движением, эта уве-
ренность в том, что все одинаковы, все герои, заставляет Фурманова с особенной симпатией
подробно описывать протест лиц, награжденных за боевые заслуги. Осуждая Чапаева за
уравниловские представления о социальной революции, Фурманов не меньше Чапаева горит
уравниловским пафосом. Отсюда исходит и его нигилизм по отношению к герою и его страх перед
легендой.
И, несмотря на все это, именно книга Фурманова «Чапаев» является самым драгоценным
памятником героизму гражданской войны, героизму масс и героизму отдельных бойцов. И как раз
эта книга открывает путь для легенды, ибо оставляет у читателя чувство любви, восхищения,
преклонения перед славным подвигом людей великой борьбы. И среди них встает в
действительном ореоле героизма, человеческой широкой личности, горячей, самозабвенной,
глубокой и в то же время скромной страсти командир и боевой вождь Василий Иванович Чапаев.
Уже сейчас, всего через восемнадцать лет после смерти, Чапаев легендарен. Это не легенда
















