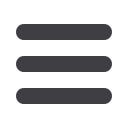

145
кому же охота?.. Я поэтому и выберу место, чтобы все вы были целы да самому не погибнуть
напрасно...»
«...Я на рожон никогда тебе не полезу, хоть ты кто хочешь будь».
А вот случай, когда всему дивизионному командованию пришлось под выстрелами
пробираться к полку:
«Чапаев перебегал последним. Федор, чтобы наблюдать, спрятался и следил, как тот
сначала рванулся и побежал, но вдруг повернулся обратно и юркнул снова за стог. Потом
переждал и уже не пытался перебегать прямо к деревне, а взял в обратную сторону, окружным
путем, и к штабу явился последним.
Федор любопытствовал:
Что это ты, Василий Иванович, сдрейфил как будто? За овином–то, словно трус, мотался?
Пулю шальную не люблю, – серьезно ответил Чапаев. – Ненавижу... Глупой смерти не
хочу!.. В бою – давай, там можно... а тут... – И он сплюнул энергично и зло».
Таким образом, и это «качество», будто бы роднившее Чапаева с крестьянской массой,
отпадает. Каких–либо иных «крестьянских» качеств Фурманов и сам не выставляет. Необходимо
признать, что настойчивое отнесение Чапаева обязательно к крестьянству выглядит у Фурманова
чрезвычайно натянуто. При этом Чапаев в его изображении не несет в себе никаких крестьянских
черт и никакого отношения не имеет к так называемой стихийности.
Это, прежде всего, – командир Красной Армии, боевой комдив, за которым идут с равным
успехом и рабочие и крестьянские полки. Он один из тех талантливых полководцев, которых
выдвинула революция и которые вели за собой полки революции по директивам партии, но не по
стихийному слепому размаху. Конечно, и Чапаев растет в революции, но ведь растет и сам
Фурманов и растут все остальные бойцы. Борьба с Колчаком – это не только славные дни
напряжений и побед, но это и дни грандиозного роста масс, творящих революцию, дни роста
каждой отдельной личности. Причины этого роста лежат во всей гениальнейшей работе партии,
возглавляемой Лениным и его сподвижниками.
Конечно, в этом процессе роста и Фурманов делал свое большевистское дело, но это его
влияние нельзя обособлять и выпячивать как особое «индивидуальное» дело.
Второй грех Чапаева – недоверие к штабам. На нем не нужно много останавливаться, хотя
как раз на нем Фурманов останавливается много. Чапаев не воевал для славы, или для награды,
или для переживания удали сильного движения. У него только одна цель – победа над врагом,
победа революции. Только имея в виду эту цель, он не бросает свои полки «на рожон», из того же
побуждения он не вполне доверяет штабам. Мы можем сказать только одно: Чапаев прав был в
своей осторожности. Мы знаем, что в штабах было немало друзей и ставленников Троцкого, было
много и притаившихся белогвардейцев.
У
самого Чапаева перед решительными боями с Колчаком
сбежал к белым командир бригады. Поэтому и недоверие Чапаева имело основания:
«Недоверие к центру было у него органическое, ненависть к офицерству была смертельная,
и редко–редко где был приткнут по дивизии один–другой захудалый офицерик из «низших
чинов». Впрочем, были и такие из офицеров (очень мало), которые зарекомендовали себя
непосредственно в боях. Он их помнил, ценил, но... всегда остерегался».
И конечно, только с удовлетворением мы читаем:
«Эта линия – выдвигать повсюду своих – была у него центральная. Поэтому и весь аппарат
у него был такой гибкий и послушный: везде стояли и командовали только преданные, свои,
больше того – высоко чтившие его командиры»!
А если мы одновременно с этим вспомним, что Чапаев глубоко почитал т. Фрунзе и до
конца ему верил, то вопрос об этом грехе чапаевском можно снять с обсуждения, тем более что и
сам Фурманов, так осудивший Чапаева за недоверие к
















