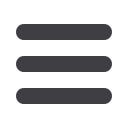

143
высокого вранья, это не игра привольного воображения поэтов и рассказчиков, это не дань
инстинктивной любви к чудесному.
Легенда о Чапаеве – это память о реальных, но действительно титанических делах людей
девятнадцатого и соседних с ним годов. Для измерения этих дел не годятся обычные масштабы и
обычный бытовой реализм, как не годятся они и для измерения многих событий наших дней.
Здесь нужен реализм большого исторического синтеза, социалистический реализм в его самых
высоких формах. Фурманов оказался в русле этого социалистического реализма, и поэтому
основанием для чапаевской легенды являются не россказни болтунов, которых так боялся
Фурманов, а повесть самого Фурманова, «трезвого аналитика», «противника героев и легенды».
Хочет того Фурманов или не хочет, а как раз в его книге мы видим Чапаева впереди полков,
видим в воодушевленном, горячем движении: да, верхом на коне, да, с занесенной чудесной
чапаевской саблей. Фурманов избегает батального стандарта, но он забывает о том, что и стандарт
перестает быть стандартом, когда наполняется богатым содержанием, искренним и глубоким
человеческим движением. Эту самую чудесную чапаевскую саблю читатель восстанавливает из
таких, к примеру, не батальных картин:
«В штаб бригады приехал Фрунзе, ознакомился быстро с обстановкой, расспросил об
успешных последних боях Сизова – и тут же, в избушке, набросал благодарственный приказ.
Это еще выше подняло победный дух бойцов, а сам Сизов, подбодренный похвалою,
поклялся новыми успехами, новыми победами.
– Ну, коли так, – сказал Чапаев, – клятву зря не давай. Видишь эти горы? – И он из окна
указал Сизову куда–то неопределенно вперед, не называя ни места, ни речек, ни селений. – Бери
их, и вот тебе честное мое слово: подарю свою серебряную шашку!
– Идет! – засмеялся радостный Сизов».
А через несколько страниц уже сам Сизов рассказывает:
« – На вот, бери, – говорит, – завоевал ты ее у меня.
Снял серебряную шашку, перекинул ко мне на плечо, стоит и молчит. А мне его, голого,
даже жалко стало, – черную достал свою: на, мол, и меня помни! Ведь когда уж наобещает –
слово сдержит, ты сам его знаешь...»
Чапаевская шашка, серебряная или черная, не простой аксессуар военного быта; она не
только для Сизова высокая награда, она и для нас дорогая реликвия чапаевских подвигов и побед.
И то, что Чапаев отдает ее боевому товарищу, а после этого «стоит и молчит», «голый», нам рас-
сказывает о Чапаеве больше, чем любая батальная сцена, рассказывает в каких –то особенных
новых словах.
Чапаев может хвастать, может гордиться своей славой, может буянить и капризничать. Он
действительно не «идеальный» герой, он живой и страстный человек, с ярким характером и с
яркими недостатками. Чапаева можно анализировать, можно «разделить» на части: поступки,
идеи, слова, странности, – можно показать на то или иное и сказать: «Вот видите: и это плохо, и
это нехорошо, и это опасно, и это партизанщина». Но никогда этот анализ не уничтожит цельного,
неделимого Чапаева, который ни в какой мере не является простой суммой качеств, сводимых в
арифметическом порядке в какой–то итог
не то со знаком плюс, не то со знаком минус.
Чапаевский неделимый синтез – это воля борца, это неудержимая, всепополняющая,
всеобъясняющая человеческая страсть к победе.
Приходится употребить это далеко не точное слово: «страсть». С ним зачастую
связываются представления о чем–то стихийном и хаотическом, о чем–то безумном. Страсть
Чапаева – страсть другого рода. Это полная мобилизация всех духовных сил человека в одном
стремлении, но мобилизация целесообразная, светлая, ответственная в самой своей глубине.
Фурманов замечательно изобразил эту мобилизацию, но его смутило одно: она происходит на
фоне слабой образованности Чапаева, его «темноты». Всем было бы приятнее, если бы духовная
сила Чапаева
















