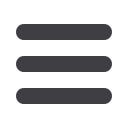

144
была соединена с большим политическим и общим знанием, отсюда и вышло желание
истолковать произведение Фурманова как картину дополнительного воспитания Чапаева,
проведенного комиссаром Клычковым. Мы видели, что это истолкование не имеет достаточных
оснований в тексте, но оно не имеет и смысла. Перевоспитывать Чапаева в момент полного
творческого героического напряжения его сил, – какая это была бы нелепость! И Фурманов
понимает это лучше всех: несмотря на весь свой трезвый скептицизм, несмотря на
социологическую схему своих толкований, он бережно охраняет Чапаева, любовно –настойчиво
поправляет его, спасает Чапаева для дела, которому и сам служит беззаветно –героически. Вот это,
именно это делает Клычков от имени партии, и насколько это выше, насколько это труднее,
насколько это «партийнее», чем какое–то действительно невыносимое перевоспитание.
Здесь уместно, наконец, поставить ребром вопрос, который давно напрашивается: на самом
деле, какое воспитание или перевоспитание необходимо Чапаеву в таком срочном порядке, что его
нельзя отложить, несмотря на боевую обстановку? Какие такие грехи или греховные наклонности
Чапаева смутили критиков, не дают им покоя, вплотную ставят перед ними проблему его
«перековки»? Разве читателю не бросается в глаза, что Чапаев во всей своей величине и цельности
поднят большевистской революцией, воспитан, ошеломлен, восхищен, захвачен большевистской
борьбой, отдался ей до конца? Разве он не настоящий большевик в каждом своем поступке, разве
не отражено в каждом дне его жизни великое дело партии и разве не за это дело он положил свою
голову?...
Да, Чапаев малограмотен, он говорит «стратех», а Чичикова называет Чичкиным – ну так
что? А какое образование было у Буденного? Разве это новость, что Великая социалистическая
революция сделана людьми, у которых она не потребовала предъявления дипломов о высшем
образовании? И, наконец, разве Чапаев не рвался страстно к знанию, не скорбел о своей темноте,
разве «темнота» ему органически свойственна?
Собственно, о партизанских действиях Чапаева можно бы и не говорить: ведь Чапаеву был
поручен самый ответственный участок фронта – центр наступления. Под его начальством три
бригады – девять полков, организованных в строгом боевом порядке. Эти полки не имеют с
Чапаевым никакого общего партизанского прошлого. За шесть месяцев, охваченных рассказом
Фурманова, сам Чапаев дважды перебрасывается на новые участки фронта и беспрекословно
подчиняется этим переброскам. Вообще читатель не видит ни одного случая партизанского
своеволия Чапаева. С другой стороны, и в пределах своей дивизии Чапаев не допускает никакого
своеволия. Фурманов подробно описывает случай, когда тот же Сизов, получивший от Чапаева его
шашку, был чуть не застрелен Чапаевым только за то, что вопреки приказу преследовал разбитого
противника, когда это дело было поручено другой части. Вообще, все действия Чапаева как
командира отличаются большой четкостью, продуманностью, организованностью. Доказывая, что
Чапаев есть «герой» крестьянской массы, Фурманов не идет дальше такой формулы:
«Обладал качествами этой массы, особенно ею ценимыми и чтимыми, – личным
мужеством, удалью, отвагой и решимостью».
Нужно, конечно, отметить, что эти качества отнюдь не являются принадлежащими только
крестьянству. Вероятно, Фурманов приписывает их крестьянской массе в каких–нибудь
избыточных, вредных количествах. Но как раз Чапаев не отличается такой безумной удалью. В
книге нет ни одного эпизода, когда Чапаев сам бросился или послал бы других куда–нибудь
очертя голову только для того, чтобы проявить свою удаль. Как раз наоборот, он отличается
большой осмотрительностью и не скрывает этого от этой самой «крестьянской массы», вовсе не
стремясь заслужить у нее славу удальца:
« – А я не генерал, – продолжал Чапаев, облизнувшись и щипнув себя за ус, – я с вами сам
и навсегда впереди, а если грозит опасность, так первому она попадет мне самому... Первая–то
пуля мне летит... А душа ведь жизни просит, умирать–то
















