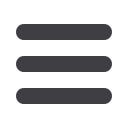

150
читатели тоже всегда предпочитали описание страданий. Одним словом, издавна человек всегда
был специалистом именно по несчастью, по горестному событию и всегда любил такие
произведения, где счастьем даже и не пахло. Самые милые для нас, самые близкие сердцу
произведения художественной литературы стараются обходить счастье десятой дорогой или
удовлетворяются констатацией пушкинского типа:
А счастье было так возможно,
Так близко
1
.
У Лермонтова, у Достоевского, у Гоголя, у Тургенева, у Гончарова, у Чехова так мало
счастья и в строчках и между строчками. Очень редко оно приближается на пушкинскую
дистанцию, но немедленно его легкий и волшебный образ уносится какой–нибудь жизненной
бурей.
Почему это так? Почему вся прошлая художественная литература так не умеет, так не
любит изображать счастье, т. е. то состояние человека, к которому он всегда естественно
стремится и из–за которого, собственно говоря, живет?
Почему в номенклатуре художественных форм мы имеет драму и трагедию, т. е. форму
страдания, а не имеем ничего для темы радости? Если мы хотим повеселиться и порадоваться, то
смотрим фарс или комедию, т. е. любуемся поступками людей, которых, пожалуй, даже и не
уважаем. Почему на самых последних задворках, среди разной мелочи, давно захирела идиллия
2
.
Некоторые литераторы даже полагают, что счастье по самой природе своей не может быть
предметом художественного изображения, ибо последнее невозможно будто без игры коллизий и
противоречий.
Этот вопрос подлежит, разумеется, серьезному и глубокому теоретическому исследованию.
Но уже и сейчас можно высказать некоторые предчувствия, и единственным основанием для
таких предчувствий является новый образ счастья, выдвинутый Октябрьской революцией. В этом
образе мы видим новые черты и новые законы человеческой радости, видим их впервые в истории.
Именно эти новые черты позволяют нам произвести подлинную ревизию старых представлений о
счастье и понять, почему так уклончиво относилась художественная литература к этой теме.
Представим себе, что у Онегина и Татьяны счастье было не только возможно, но и
действительно наступило. Не только для нас, но и для Пушкина было очевидно, что это счастье,
как бы оно ни было велико в субъективных ощущениях героев, недостойно быть объектом
художественного изображения. Человеческий образ и Онегин, и Татьяна могут сохранить в
достойном для искусства значении только до тех пор, пока они страдают, пока они не успокоились
на полном удовлетворении. Что ожидало эту пару в лучшем случае? Бездеятельный,
обособленный мир неоправданного потребления, в сущности, безнравственное, паразитическое
житие.
Передовая литература, даже дворянская, все же не находила в себе дерзости рисовать
картины счастья, основанного на эксплуатации и горе других людей. Такое счастье, даже,
несомненно, приятное для его обладателей, в самом себе несло художественное осуждение, ибо
всегда противоречило требованиям самого примитивного гуманизма. Как кинематографический
фильм не выносит бутафорских костюмов, так подлинно художественная литература не выносит
морали капиталистического и вообще классового общества.
Именно поэтому литература не могла изображать счастье, основанное на богатстве. Но она
не могла изображать и счастье в бедности, ибо подобная идиллия не могла, конечно, обойтись без
участия ханжества. Искусство, всякое настоящее искусство, никогда не могло открыто оправдать
человеческое неравенство.
Классовая жизнь – это жизнь неравной борьбы, это история насилия и
сопротивления
насилию. В этой схеме человеческому счастью остается такое узкое и сомнительное место, что
говорить о нем в художественном образе – значит говорить о вещах, не имеющих общественного
значения.
















