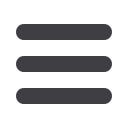
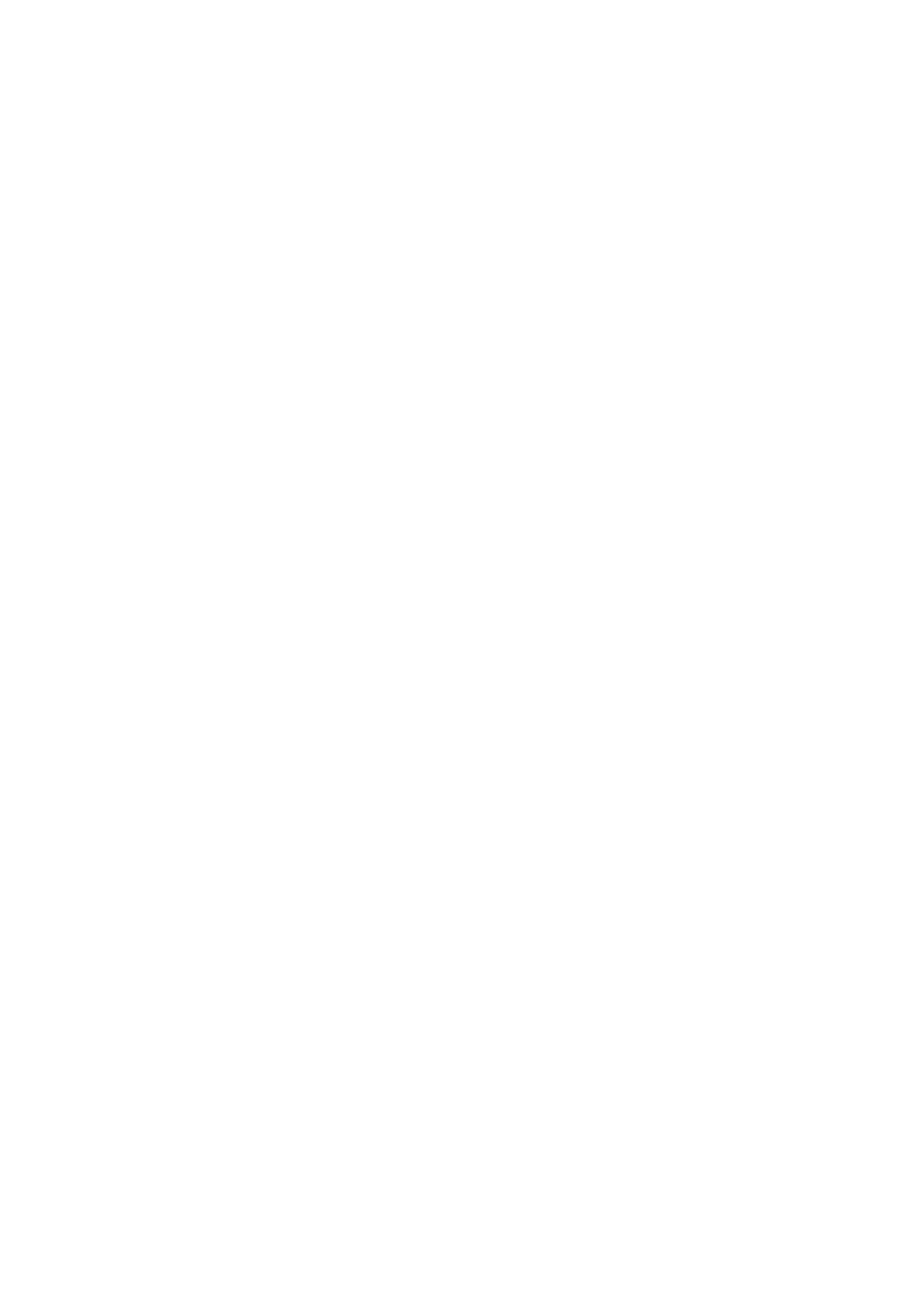
151
Старое счастье находилось в полном обособлении от общественной жизни, оно было
предметом узколичного «потребления», в известной мере спрятанного, секретного,
долженствующего вызывать зависть тех, кого человеческое неравенство поставило на одну даже
ступеньку ниже. В жестоком эксплуататорском обществе жизнь личности колебалась от циничной
жизни насильника до такой же циничной и безобразной жизни подавленного человека, и поэтому
счастье всегда содержало в себе некоторый элемент того же цинизма.
Только Октябрьская революция впервые в истории мира дала возможность родиться
настоящему, принципиально чистому, нестыдному счастью. И прошло только 20 лет со дня
Октября, а на наших глазах с каждым днем ярче и искренне это счастье реализуется в нашей
стране. До чего смешно теперь говорить только о любовном счастье, о том самом единственном,
принудительном суррогате его, о котором кое–как пытались говорить старые художники.
Наше счастье – это очень сложный, богатейший комплекс самочувствия советского
гражданина. В этом комплексе любовная радость именно потому, что она не обособлена, не
уединена в своем первобытно –природном значении, дышит полнее, горит настоящим горячим
костром, а не теплится где–то в семейной лачуге в качестве одного из наркотиков, умеряющих
страдания человека.
Но наше советское счастье гораздо шире. Оно так велико, что наше молодое
искусство еще
не умеет его изображать, хотя оно, несомненно, должно составить самую достойную тему для
художника.
Ведь наше счастье уже в том, что мы не видим разжиревших пауков на наших улицах, не
видим их чванства и жестокости, роскошных дворцов, экипажей и нарядов эксплуататоров, толпы
прихлебателей, приказчиков и лакеев, всей этой отвратительной толпы паразитов второго сорта.
Не видим ограбленных, искалеченных злобой масс, не знаем беспросветных, безымянных
биографий. Но счастье еще и в том, что и завтра мы не увидим их, счастье в просторах
обеззараженных наших перспектив.
Это самое исключительное счастье, но мы уже привыкли к нему. Вот эта наша
замечательная двадцатилетняя привычка – это то самое здоровье, которого человек обычно не
замечает.
Но мы богаче даже этого замечательного богатства. Двадцать лет Октября принесли нам не
только свободу, но и плоды свободы.
Мы научились быть счастливыми в том высочайшем смысле, когда счастьем можно
гордиться. Мы научились быть счастливыми в работе, в творчестве, в победе, в борьбе. Мы
познакомились с радостью человеческого единения без поправок и исключений, вызванных
соседством богача. Мы научились быть счастливыми в знании, потому что знание перестало быть
привилегией грабителей. Мы научились быть счастливыми в отдыхе, потому что мы не видим
рядом с собой праздности, захватившей монополию отдыха. Мы научились быть счастливыми в
ощущении нашей страны, потому что теперь эта страна наша, а не нашего хозяина. Мы знаем
теперь, какая красота и радость заключается в дисциплине, потому что наша дисциплина – это
закон свободного движения, а не закон своеволия поработителей.
В каждом нашем ощущении присутствует мысль о человеке и о человечестве, и наше
счастье поэтому не только явление общественное, но и историческое. И только поэтому оно
освобождено от признаков тягостной случайности и эфемерности, оно никакого отношения не
имеет к судьбе, этой старой своднице былых людских предназначений.
Но наше счастье – это вовсе не подарок «провидения» советскому гражданину. Оно
завоевано в жестокой борьбе, и оно принадлежит только нам – искренним и прямым членам
бесклассового общества. И поэтому оно приходит не к каждому, кому захочется поселиться на
нашей территории. Тому, кто умеет плавать только в мутной воде эксплуатации, счастья у нас не
положено. Больше того, ему положены у нас, по меньшей мере, неприятности.
Законы нашего советского счастья требуют пристального и глубокого изу-
















