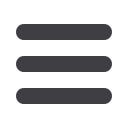

60
И ушел, сопровождаемый станционным жандармом, до деревянной твердости набитым
почтением и фрунтовой выправкой.
В нашем представлении было даже не совсем понятно, как могут эти вылощенные господа
летать на аэропланах, слишком уж велико было противоречие между их блеском и скромной
настойчивостью летного подвига.
И вот первого декабря в морозный бесснежный день в тишину наших классных занятий
ворвался непривычный и непонятный звук мотора. Он с напористым и настойчивым усилием шел
на нас все заполняющей волной и, наконец, поглотил все, звенящим грохотом упал у самых дверей
школы и вдруг замер. Мы бросились наружу. По широкой площади перед школой катился прямо
на нас крылатый легкий аппарат. Ребята бросились в стороны, а потом испуганными глазами
загляделись на невиданное чудо. Аэроплан остановился у самого крыльца здания. Сбоку мы
увидели две головы в шлемах, торчащих из крохотной кабины. Мы побежали к ним.
На землю спрыгнул ловкий человек и помахал нам рукой. На его плечах ярко выделялись
на черной коже куртки золотые погоны: одна дорожка и три звездочки.
Офицер присел и глянул на колеса. Потом поднялся и сказал мне весело:
– Фу, черт! Счастливо отделались!
Веселый его звонкий тенор все–таки не мог скрыть страшной бледности лица и тонкого
вздрагивания побелевших губ. Даже узкие усики над губами вибрировали еле заметно. Меня
захватила волна горячей симпатии к этому небесному гостю, мне хотелось и торжественно
славить его и пожалеть.
Он прожил у нас три дня, пока его механик съездил в Киев за какой–то частью для мотора.
Поручик Яблонский совершал засекреченный перелет из Киева в Севастополь. Посадка ему
полагалась в Николаеве, но пришлось сесть на нашей станции, так как в бензопроводе случилась
какая–то поломка.
Поручик оказался очень простым и милым человеком. На нашей станции все–таки была
кое–какая аристократия: начальник участка, начальник станции, следователь. Они устроили в
честь его пребывания банкет, но поручик не пил ни вина, ни водки, и устроители банкета были
очень разочарованы и с горя напились сами до той степени, какая обычно принята была на нашей
станции даже по менее важным поводам. А поручик предпочитал общество моих учеников.
Целый день он проводил в нашей школе, а вечером устраивался в бедном нашем
общежитии и рассказывал ребятам жуткие истории о первых полетах аэропланов, о будущих днях
авиации, о погибших летчиках. Ни в нем самом, ни в его рассказах, не блестели офицерские
погоны, он ни разу не назвал ни одного чина, да и свою тужурку повесил у меня и полюбил мой
меховой полушубок, более приспособленный для степных ветреных морозов.
Занятия в школе проводились кое–как: ребятам было не до занятий, слишком поразил их
воображение этот залетный, простой и веселый гость. Больше всего вертелся возле него Алешка
Сидорин, четырнадцатилетний серьезный мальчик, сирота, потерявший отца–машиниста в
железнодорожном крушении. Яблонский и сам обратил внимание на Алешку и дошел в беседах с
ним до таких тонкостей, что уже и карандаш появился в его руках, и на ученической тетрадке
начертил он для Алешки схему аэропланных рулей и еще каких–то хитростей.
Четвертого декабря перед вечером Яблонский закончил ремонт своего мотора. С самого
утра провозились он и его механик в аэроплане, а мои ребята и в школу не пошли, а обступили,
машину тесной толпой, и Яблонский кричал им сверху:
– Ничего, ничего, ребята, полетим!
Он поднялся в воздух очень поздно, уже начало темнеть. Мы уговаривали его отложить
полет на завтра, но у Яблонского были свои соображения. Он пожал руки почти всем двумстам
моим ученикам, потрепал кое–кого по грустной мордочке и обещал обязательно дать телеграмму о
благополучном прибытии в Николаев, куда он должен был прилететь через час.
















