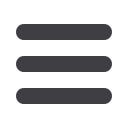

61
Мы грустно следили за тем, как еле заметная точка самолета исчезла в декабрьском
вечернем небе, а потом всей толпой отправились на станцию ожидать телеграммы.
Телеграмму мы ожидали долго. Сначала оживленно обсуждали яркие подробности
последних дней, потом тревожно молчали, а потом девочки начали плакать. Было двенадцать
часов ночи, когда я увел грустных ребят спать. Алешка Сидорин выпросил у меня разрешения
остаться на станции, он все–таки продолжал верить в телеграмму.
Она пришла к вечеру следующего дня и была подписана механиком. Он сообщал, что
Яблонский сбился с пути и сел в поле, сел неудачно, в ров, разбил вконец машину и сам расшибся:
находится в Николаеве в военном госпитале с переломанными руками и ногами.
Редко можно видеть такое широкое и горячее горе, какое захватило моих учеников. Они
засели в классах за партами и громко открыто рыдали, не стесняясь друг друга и не оглядываясь. Я
очень хорошо понимал их страдания, потому что и у самого щемило в сердце от сознания
обидной и глупой несправедливости, от наглого хулиганства жизни, оскорбляющего прежде всего
самых лучших, самых смелых и новых людей.
Алешка Сидорин не плакал. Он бродил по школе молчаливый и суровый и все о чем–то
думал. Только к ночи он оживился и пришел ко мне с листком бумаги:
– Хлопцы согласны. Вот тут написали, у кого есть, а у кого нет, и так хорошо.
На листке бумаги были в колонку выписаны фамилии и против каждой стояла сумма: три
копейки, пять копеек, одна копейка. Алешка объяснил, что это собрано четыре рубля пятьдесят
девять копеек, чтобы послать Яблонскому большую телеграмму, в телеграмме все написать.
Я ничего не сказал Алеше, и мы сели писать телеграмму. Она вышла действительно очень
большой и подробной. В ней мы не столько обращались к Яблонскому, сколько к глупой судьбе, и
требовали, чтобы она с большим уважением относилась к человеческому подвигу. Телеграмма эта
обошлась нам в десять рублей, сложились и учителя. Ее отправка успокоила ребят: грустные, но
уже без рыданий, отправились они спать. А на другой день мы получили и ответ от Яблонского, в
котором он благодарил нас и обещал поправиться и когда–нибудь снова к нам прилететь.
Через неделю мы видели на платформе обломки аэроплана Яблонского, которые
проследовали через нашу станцию в Киев. А еще через неделю меня вызвал на соседнюю узловую
станцию жандармский штабс–ротмистр.
Ротмистр дико глянул на меня:
– Сегодня сбор денег на телеграмму, а завтра для чего? Сегодня Яблонскому, а завтра
кому?
– Господин ротмистр, но ведь…
– Что вы там еще говорите…
– Но ведь… военный летчик! Поручик!
Ротмистр дико глянул на меня:
– Вдолбите себе раз навсегда в голову: военный он или не военный, это вас не касается.
Понимаете? Если не понимаете, смотрите, чтобы я не объяснил вам как следует.
– Я понимаю, – тихо сказал я.
Он посмотрел на меня подозрительно и отвернулся:
– Можете идти. На этот раз мы ограничимся увольнением.
Я ушел. И действительно все понял. Действительно подвиги военных летчиков моей
страны не имели ко мне никакого отношения. Пусть, это в конце концов и раньше было ясно. Я не
страдал и не жалел себя, но мне до рыданий стало жалко поручика Яблонского. В таком случае,
для кого приносит он свою жизнь в жертву? Неужели для жандармского штаб–ротмистра?
















